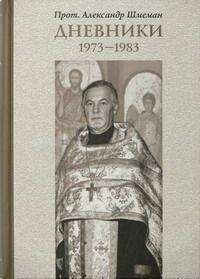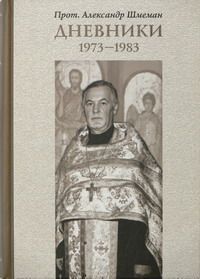Вторник, 10 апреля 1973
Проглядывал, подчитывал "Свиток" Ульянова и "Русскую литературу за рубежом" Полторацкого. В связи с этим – мысли об эмиграции. Она, в сущности, – моя настоящая родина. Но в Америке – это был правильный инстинкт – нужно было уходить от нее и из нее, спасаться от заражения трупным ядом. Во Франции она просто умирает, и не без достоинства. Здесь она гниет. Там останется ее идеальный образ. Здесь – карикатура. Там была высокая печаль, хотя бы у некоторых, у лучших, у ведущих. Здесь – злость и "карьера"…
Хотелось бы когда-нибудь стать совсем свободным и написать о том, как постепенно проявлялась в моем сознании Россия через "негатив" эмиграции. Сначала только и всецело семья – и потому никакого чувства изгнания, бездомности. Россия была в Эстонии, затем – один год – в Сербии; дедушка и бабушка Шишковы-Сеняк, первые впечатления церковные: незабываемое воспоминание о мефимонах1 в русской церкви в Белграде. Ранний Париж. Обо всем этом вспоминаю, как вспоминают эмигранты о летних вечерах на веранде какой-нибудь усадьбы в России. Та же прочность быта, семьи, праздников, каникул… Эта Россия – язык, быт, родство, ритм.
Затем – корпус, может быть самые важные пять лет всей моей жизни (девять-пятнадцать, 1930-1938 . Прививка "эмигрантства" как высокой трагедии, как трагического "избранства". Славная, поразительная, единственная Россия, Россия христолюбивого воинства, "распятая на кресте дьявольскими большевиками". Влюбленность в ту Россию. Другой не было, быть не может. Ее нужно спасти и воскресить. Другой цели у жизни нет. Чтения ген. Римского-Корсакова: Денис Давыдов, Аустерлиц, Бородино. "Под шум дубов"2 – и т.д. Мы – дети гвардейских офицеров. "В Ново-Димитриевской снегом занесены, мокрые, скованы льдом. Шли мы безропотно, дралися весело, грелись холодным штыком…"3.
1 Мефимоны – в русском церковном обиходе название повечерия с чтением Великого канона Андрея Критского.
2 Роман С.Р.Минцлова.
3 из песни добровольческого полка генерала Маркова.
Четверг, 12 апреля 1973
Потом – сквозь эту военную Россию – постепенное прорастание "других" Россий: православно-церковно-бытовой (через прислуживание в Церкви и "тягу" на все это), литературной ("подвалы" по четвергам в "Последних новостях" Адамовича и Ходасевича), идейной, революционной и т.д. Россия – слава, Россия – трагедия, Россия – удача, Россия – неудача… Потом французский лицей, открытие Франции, Парижа, французской культуры. Постепенное внутреннее открытие, что большинство русских живет какой-нибудь одной из Россий, только ее знает, любит и потому абсолютизирует. Отсутствие широты и щедрости как отличительное свойство эмиграции. Обида, драма, страх, ущербленная память. Вообще – "неинтегрированность", фрагментарность русской памяти и потому России в русском сознании.
В сущности, я полюбил все "России". Каждую в отдельности и все вместе. Я до сих пор убежден, например, что тип русского офицера (первый тип, встреченный в жизни: Римский-Корсаков, Маевский, А.В. Попов, даже папа) – очень высокий, нравственно и человечески, тип, им можно любоваться (Толстой любовался им), как можно любоваться и другими типами: русским священником, интеллигентом и т.д.
Пятница, 13 апреля1973
"Accepter de ne pas etre aime: c'est a ce prix que l'on met sa marque sur les choses"[36] (из статьи о Michel Debre).
Пятница акафиста. Почти с самого детства я ощущал этот день как начало . Сегодня вспомнилась так ясно эта самая пятница в один из годов Lycee Carnot (наверное, 1938 г .). Шел после обеда в лицей и предвкушал, как через четыре часа пойду [в собор] на rue Daru к акафисту. Почему-то шел по rue Brochant – и все помню: освещение, деревья, только что зазеленевшие, детские крики в сквере. Тогда не знал, конечно, что на этой же самой улице увижу в последний раз папу: летом 1957 г . Я уезжал в Нью-Йорк, он смотрел в окно с четвертого этажа.
Я многое могу, сделав усилие памяти, вспомнить ; могу восстановить последовательные периоды и т.д. Но интересно было бы знать, почему некоторые вещи (дни, минуты и т.д.) я не вспоминаю, а помню , как если бы они сами жили во мне. При этом важно то, что обычно это как раз не "замечательные" события и даже вообще не события, а именно какие-то мгновения, впечатления. Они стали как бы самой тканью сознания, постоянной частью моего "я".
Я убежден, что это, на глубине, те откровения ("эпифании"), те прикосновения, явления иного , которые затем и определяют изнутри "мироощуще-
1 "Согласиться не быть любимым – только этой ценой можно оставить свой след в жизни" (фр.).
2 Александро-Невский собор в Париже на улице Дарю, 12; заложен 3 марта 1859, освящен 30 августа 1861, в день перенесения мощей св. Александра Невского.
ние". Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости (которую, действительно, "никто не отнимет от нас"[37], потому что она стала самой глубиной души) потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т.д. Например, та Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через нее – в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, – в сущности всегда внутренняя потребность передать и себе, и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновенье. Говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность – не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. "Анамнезис": все христианство это благодатная память , реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленные на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность. "Будьте, как дети" – это и означает "будьте открыты вечности". Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть "взрослым", от необходимости попирать "детство" в себе. Взрослая религия – не религия, и точка, а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому все время извращаем. "Вы уже не дети – будьте серьезны!" Но только детство – серьезно. Первое убийство детства – это его превращение в молодежь. Вот это действительно кошмарное явление, и потому так кошмарен современный трусливый культ молодежи. Взрослый способен вернуться к детству. Молодежь – это отречение от детства во имя еще не наступившей "взрослости". Христос нам явлен как ребенок и как взрослый , несущий Евангелие, только детям доступное. Но Он не явлен нам как молодежь. Мы ничего не знаем о Христе в 16, 18, 22 года! Детство свободно, радостно, горестно, правдиво. Человек становится человеком, взрослым хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность в себе заглушает (Карл Маркс и все верующие в гладкую "науку" и "методологию". "Методология изучения христологии". Брр!). В детстве никогда нет пошлости . Человек становится взрослым тогда, когда он любит детство и детей и перестает с волнением прислушиваться к исканиям, мнениям и интересам молодежи. Раньше спасало мир то, что молодежь хотела стать взрослой. А теперь ей сказали, что она именно как молодежь и есть носительница истины и спасения. "Vos valeurs sont mortes!"[38] – вопит какой-то лицеист в Париже, и все газеты с трепетом перепечатывают и бьют себя в грудь: действительно, nos valeurs sont mortes![39] Молодежь, говорят, правдива, не терпит лицемерия взрослого мира. Ложь! Она только трескучей лжи и верит, это самый идолопок-
1 Ср. Ин.16:22.
2 "Ваши ценности мертвы!" (фр.).
3 наши ценности мертвы (фр.).
лоннический возраст и, вместе с тем, самый лицемерный. Молодежь "ищет"? Ложь и миф. Ничего она не ищет, она преисполнена острого чувства самой себя, а это чувство исключает искание. Чего я искал, когда был "молодежью"? Показать себя, и больше ничего. И чтобы все мною восхищались и считали чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал, а те, кто этого просто не замечал. В первую очередь – папа своей скромностью, иронией, даром быть самим собой и ничего "напоказ". Об него и разбивалась вся моя молодежная чепуха, и я чем больше живу, тем сильнее чувствую, какую удивительную, действительно подсознательную роль он сыграл в моей жизни. Как будто – никакого влияния, ни малейшего интереса к тому, чем я жил, и ко всем моим "исканиям". И никогда в жизни я с ним не советовался и ни о чем не спрашивал. Но, вот, когда теперь думаю о нем – со все большей благодарностью, со все большей нежностью – так ясно становится, что роль эта в том и заключалась, что никакого кривлянья, никакого молодежного нажима педали с ним не было возможно, что все это от него отскакивало, при нем не звучало. И, конечно, светилось в нем детство, почему и любили так его все, кто его знал. И теперь этим детством светится мне его образ.