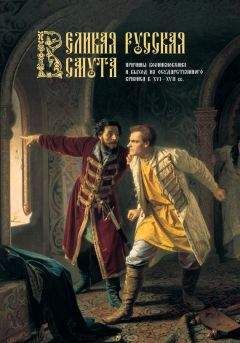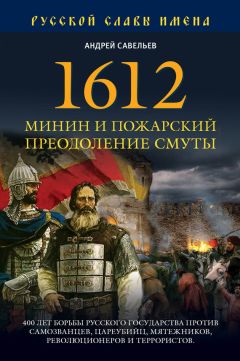Усмирив Казанское царство, Годунов довершил завоевание Сибирского. <…>
В делах внешней политики Борис следовал правилам лучших времен Иоанновых, изъявляя благоразумие с решительностию, осторожность в соблюдении целости, достоинства, величия России. <…>
Годунов, стараясь деятельным, мудрым правлением заслуживать благодарность отечества, а ласками приязнь главных бояр, спокойно властвовал 16 или 17 месяцев, презирал недоброжелателей, имея в руке своей сердце Государево и, снискав особенную дружбу двух знаменитейших вельмож, Никиты Романовича Юрьева и князя Ивана Федоровича Мстиславского, один правительствовал, но советовался с ними, удовлетворяя тем их умеренному честолюбию. <…>
В обстоятельствах, благоприятных для величия и целости России, когда все доказывало ум и деятельность правительства, то есть Годунова, он был предметом ненависти и злых умыслов, несмотря на все его уловки в искусстве обольщать людей. Сносясь от лица своего с монархами Азии и Европы, меняясь дарами с ними, торжественно принимая их послов у себя в доме, высокомерный Борис желал казаться скромным: для того уступал первые места в совете иным старейшим вельможам, но, сидя в нем на четвертом месте, одним словом, одним взором и движением перста заграждал уста противоречию. Вымышлял отличия, знаки царской милости, чтобы пленять суетность бояр, и для того ввел в обыкновение званые обеды для мужей думных во внутренних комнатах дворца, где Феодор угощал вместе и Годуновых, и Шуйских, иногда не приглашая Бориса: хитрость бесполезная! Кого великий боярин приглашал в сии дни к своему обеду, тому завидовали гости царские. Все знали, что правитель оставляет Феодору единственно имя царя – и не только многие из первых людей государственных, но и граждане столицы изъявляли вообще нелюбовь к Борису. Господство беспредельное в самом достойном вельможе бывает противно народу…Годунов самовластвовал явно и величался пред троном, закрывая своим надмением слабую тень венценосца. Жалели о ничтожности Феодоровой и видели в Годунове хищника прав царских; помнили в нем Четово могольское племя и стыдились унижения Рюриковых державных наследников. Льстецов его слушали холодно, неприятелей со вниманием, и легко верили им, что зять Малютин, временщик Иоаннов, есть тиран, хотя еще и робкий! Самыми общественными благодеяниями, самыми счастливыми успехами своего правления он усиливал зависть, острил ее жало и готовил для себя бедственную необходимость действовать ужасом; но еще старался удалить сию необходимость: для того хотел мира с Шуйскими, которые, имея друзей в Думе и приверженников в народе, особенно между людьми торговыми, не преставали враждовать Годунову, даже открыто. Первосвятитель Дионисий взялся быть миротворцем: свел врагов в своих палатах кремлевских, говорил именем отечества и веры; тронул, убедил – так казалось – и Борис с видом умиления подал руку Шуйским: они клялися жить в любви братской, искренно доброхотствовать друг другу, вместе радеть о государстве – и князь Иван Петрович Шуйский с лицом веселым вышел от митрополита на площадь к Грановитой палате известить любопытный народ о сем счастливом мире: доказательство, какое живое участие принимали тогда граждане в делах общественных, уже имев время отдохнуть после Грозного. Все слушали любимого, уважаемого героя псковского в тишине безмолвия; но два купца, выступив из толпы, сказали: «Князь Иван Петрович! Вы миритесь нашими головами: и нам и вам будет гибель от Бориса!* Сих двух купцов в ту же ночь взяли и сослали в неизвестное место по указу Годунова, который, желая миром обезоружить Шуйских, скоро увидел, что они, не уступая ему в лукавстве, под личиною мнимого нового дружества оставались его лютыми врагами, действуя заодно с иным, важным и дотоле тайным неприятелем великого боярина.
Хотя духовенство российское никогда сильно не изъявляло мирского властолюбия, всегда более угождая, нежели противясь воле государей в самых делах церковных; и со времен Иоанна III, митрополиты наши в разных случаях отзывались торжественно, что занимаются единственно устройством богослужения, христианским учением, совестию людей, спасением душ; однако ж, присутствуя в думах земских, сзываемых для важных государственных постановлений – не законодательствуя, но одобряя или утверждая законы гражданские, имея право советовать царю и боярам, толковать им уставы Царя Небесного для земного блага людей – сии иерархии участвовали в делах правления соответственно их личным способностям и характеру государей: мало при Иоанне III и Василии, более во время детства и юности Иоанна IV, менее в годы его тиранства. Феодор, духом младенец, превосходя старцев в набожности, занимаясь Церковию ревностнее, нежели державою, беседуя с иноками охотнее, нежели с боярами, какую государственную важность мог бы дать сану первосвятительства, без руководства Годунова, при митрополите честолюбивом, умном, сладкоречивом? Ибо таков был Дионисий, прозванный мудрым грамматиком. Но Годунов не для того хотел державной власти, чтобы уступить ее монахам: честил духовенство, как и бояр, только знаками уважения, благосклонно слушал митрополита, рассуждал с ним, но действовал независимо, досаждая ему непреклонностию своей воли. Сим объясняется неприязненное расположение Дионисия к Годунову и тесная связь с Шуйскими. Зная, что правитель велик царицею, думая, что слабодушный Феодор не может иметь и сильной привязанности ни к Борису, ни к самой Ирине; что действием незапности и страха легко склонить его ко всему чрезвычайному, митрополит, Шуйские, друзья их тайно условились с гостями московскими, купцами, некоторыми гражданскими и воинскими чиновниками именем всей России торжественно ударить челом Феодору, чтобы он развелся с неплодною супругою, отпустив ее, как вторую Соломонию, в монастырь, и взял другую, дабы иметь наследников, необходимых для спокойствия державы. Сие моление народа, будто бы устрашаемого мыслию видеть конец Рюрикова племени на троне, хотели подкрепить волнением черни. Выбрали, как пишут, и невесту: сестру князя Федора Ивановича Мстиславского, коего отец, низверженный Годуновым, умер в Кирилловской области. Написали бумагу, утвердили оную целованием креста… Но Борис, имея множество преданных ему людей и лазутчиков, открыл сей ужасный для него заговор вовремя и поступил, казалось, с редким великодушием: без гнева, без укоризн хотел усовестить митрополита, представлял ему, что развод есть беззаконие, что Феодор еще может иметь детей от Ирины, цветущей юностию, красотою и добродетелию; что во всяком случае трон не будет без наследников, ибо царевич Димитрий живет и здравствует. Обманутый, может быть, сею кротостию, Дионисий извинялся, стараясь извинить и своих единомышленников ревностною, боязливою любовию к спокойствию России, и дал слово, за себя и за них, не мыслить более о разлучении супругов нежных. А Годунов, обещаясь не мстить ни виновникам, ни участникам сего кова, удовольствовался одною жертвою: несчастную княжну Мстиславскую, как опасную совместницу Ирины, постригли в монахини. Все было тихо в столице, в Думе и при дворе, но недолго. Чтобы явно не нарушить данного обещания, лицемерно совестный Годунов искал другого предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых, законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им России и еще замышляемыми в ревности к ее пользе – искал и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому орудию Иоаннова тиранства: ложным доносам. Слуга Шуйских, как уверяют, продал ему честь и совесть; явился во дворце с изветом, что они в заговоре с московскими купцами и думают изменить царю. Шуйских взяли под стражу; взяли и друзей их, князей Татевых, Урусовых, Колычевых, Быкасовых, многих дворян и купцов богатых. Нарядили суд; допрашивали обвиняемых и свидетелей; людей знатных и чиновных не коснулись телесно, купцов и слуг пытали безжалостно и бесполезно: ибо никто из них не подтвердил клеветы доносчика – так говорил народ, но суд не оправдал судимых. Шуйских удалили, хваляся милосердием и признательностию к заслуге героя псковского: князя Андрея Ивановича, объявленного главным преступником, сослали в Каргополь; князя Ивана Петровича, будто бы им и его братьями обольщенного, на Белоозеро; у старшего из них, князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, отняли каргопольское наместничество, но дозволили ему, как невинному, жить в Москве; других заточили в Буй-городок, в Галич, в Шую; князя Ивана Татева в Астрахань, Крюка-Колычева в Нижний Новгород, Быкасовых и многих дворян на Вологду, в Сибирь, в разные пустыни; а купцам московским (участникам заговора против Ирины), Федору Нагаю с шестью товарищами отсекли головы на площади. Еще не трогали митрополита, но он не хотел быть робким зрителем сей опалы и с великодушною смелостию, торжественно, пред лицом Феодора назвал Годунова клеветником, тираном, доказывая, что Шуйские и друзья их гибнут единственно за доброе намерение спасти Россию от алчного властолюбия Борисова. Так же смело обличал правителя и Крутицкий архиепископ Варлаам, грозя ему казнию небесною и не бояся земной, укоряя Феодора слабостию и постыдным ослеплением. Обоих, Дионисия и Варлаама, свели с престола (кажется, без суда): первого заточили в монастырь Хутынский, второго – в Антониев Новогородский, посвятив в митрополиты Ростовского архиепископа Иова. Опасаясь людей, но уже не страшась Бога, правитель – так уверяют летописцы – велел удавить двух главных Шуйских в заточении: боярина Андрея Ивановича, отличного умом, и знаменитого князя Ивана Петровича… Спаситель Пскова и нашей чести воинской, муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душной темнице или в яме! Тело его погребли в обители св. Кирилла… Так начались злодейства, так обнаружилось сердце Годунова, упоенное прелестями владычества, раздраженное кознями врагов, ожесточенное местию! Надеясь страхом обуздывать недоброжелательство, милостями умножать число приверженников и мудростию в делах государственных сомкнуть уста злословию, Борис дерзнул тогда же на обман вероломный и новую лютость. Мнимый, единственный в истории король Ливонский, бедный Магнус, еще в Иоанново время кончил жизнь в Нильтене, где вдовствующая супруга его, Мария Владимировна, и двухлетняя дочь Евдокия оставались без имения, без отечества, без друзей. Годунов призвал их в Москву, обещая богатый удел и знаменитого жениха юной вдове, Марии. Но предвидя будущее, опасаясь, чтобы, в случае Феодоровой и Димитриевой кончины, сия правнучка Иоанна Великого не вздумала, хотя и беспримерно, хотя и несогласно с нашими государственными уставами, объявить себя наследницею трона (коим он уже располагал в мыслях), Борис, вместо удела и жениха, представил ей на выбор монастырь или темницу! Инокиня неволею, Мария требовала одного утешения: не быть разлученною с дочерью, но скоро оплакала ее смерть неестественную, как думали, и еще жила лет восемь в глубокой печали, с горькими слезами воспоминая судьбу родителей, мужа и дочери. Сии две жертвы подозрительного беззакония, Мария и Евдокия, лежат в Троицкой Сергиевой Лавре, близ того места, где, вне храма, видим и смиренную, как бы опальную могилу их гонителя, ни величием, ни славою не спасенного от праведной мести Небесной!