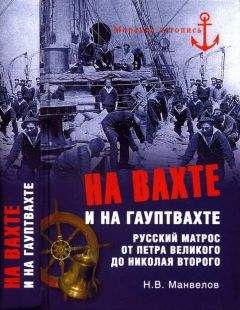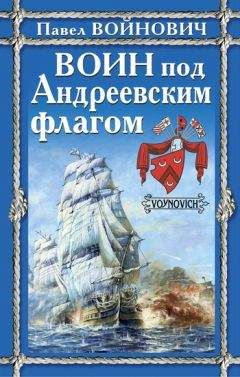— У Пудеева кобылья голова… Он словесности не знает… Проще свинью научить на белку лаять, чем из него сделать матроса…
И к каждой фразе он прибавлял самую отъявленную матерщину.
Меня все больше и больше удивлял Храпов. Нам известно было, что он происходит из крестьян Тверской губернии. Что он усвоил за шесть лет флотской службы? Строевое учение, имена царствующего дома — царя, царицы, их детей, вдовствующей императрицы, великих князей. Но для этого не нужно было иметь много ума. И все же этот малограмотный человек, который с трудом мог нам объяснить морской устав, считал себя в сравнении с нами великим человеком. А мы для него были какими-то неразумными существами. Издеваясь над нами, он упивался своей властью. Я смотрел на новобранцев, забитых и жалких, и подумал: неужели вследствие и из них кто-то выйдет таким же жестоким, как этот инструктор? А он, обрывая мои мысли, задал мне вопрос:
— Что такое знамя?
На это, вызубрив весь устав почти наизусть, я ответил без малейшего затруднения. Мне приказано было сесть. Храпов взялся за Капитонова:
— Теперь ты повтори, что он сказал.
Капитонов встрепенулся:
— Знамя… хоругва…
— Ну? — не отставал от него Храпов.
Капитонов, напрягая мысли, морщил лоб. Губы его посинели, в глазах светился животный страх. Наконец, сокрушенно мотнув головой, он забормотал;
— Потому, живота не жалея… святая хоругва, до последней крови… Часовой Храпов остановил его:
— Стой ты, дубина стоеросовая! Ну чего ты мелешь? Нет, измучился я с тобой совсем. Ты хоть пожалел бы мои кулаки: отбил я их об твою дурацкую башку. А все бестолку. Тебя, видно, учить, что на лодке по песку плавать…
И, не желая затруднять себя больше, он обратился ко мне:
— А ну-ка смажь ему разок по карточке. Да по-настоящему, смотри!
Я отказался выполнить такое приказание.
Храпов стиснул зубы и ощетинил усы. Сухое лицо его стало багровым. Он жестоко смотрел на меня, а потом уставился, словно гипнотизер, напряженным и неподвижным взглядом на Капитонова. У того от страха задергалась нижняя губа Последовал приказ с хриплым выкриком:
— Капитонов! Если он не того, то ты привари ему пару горячих!
— Есть, господин обучающий!
Ко мне повернулось лицо Капитонова, мертвецки бледное, как маска, и на момент я увидел его глаза, бессмысленно округлившиеся и пустые, точно он внезапно ослеп. Правая его рука откинулась с необыкновенной быстротой, словно он боялся упустить удобный момент для удара Не успел я произнести ни одного слова, как голова моя мотнулась в одну сторону, затем в другую. Из глаз посыпались искры, зазвенело в ушах.
— Мерзавец! За что ты меня ударил? — задыхаясь от негодования, крикнул я в диком исступлении. Я упал на койку, но сейчас же вскочил. Все мое существо охватило безумное желание наброситься на Капитонова и рвать его, рвать до тех пор, пока не истощатся последние силы. Но он сам свалился на пол как подкошенный, и над ним, яростный и страшный, стоял Псалтырев, ожидающе глядя на инструктора. Все это произошло как в бреду, и до моего сознания донесся резкий голос
— Разойдись!
Я увидел удаляющуюся из камеры спину Храпова[284].
В ту ночь я долго бродил по двору, осыпаемый холодным снегом, с болью в голове и с горечью в сердце.
Было уже поздно, когда я вернулся в камеру. Газовые рожки, наполовину привернутые, горели слабо. Кругом было сумрачно. Новобранцы, утомившиеся от работ и учебных занятий, крепко спали. Дремал и дневальный, привалившись к стене около двери. Воздух был тяжелый, спертый, пахло прелыми портянками. Я прошел к своей койке и начал раздеваться.
Капитонов еще не спал. Опустив голову, он в одном нижнем белье сидел на своей койке, убитый и несчастный. Лицо его с разбитым подбородком потемнело, взгляд устремился в одну точку. Не глядя на меня, он заговорил робко, дрожащим голосом;
— Прости, брат… Ей-богу, не знаю, как это я… Никогда больше… никогда… Бей меня, сколько хочешь…
И вдруг этот большой человек тяжко заплакал, стараясь заглушить свои всхлипывания. Я сразу понял, что не он, доведенный до невменяемости, был виноват, а кто-то другой. Мне стало жаль его, как будто своими слезами он смыл злобу с моего сердца.
Через две койки от меня всхлипывал Псалтырев.
Храпов, очевидно, сам испугался того, что случилось, и никого не посадил в карцер. И вообще он с этого месяца сократился в своих наказаниях. А мне и Псалтыреву совсем перестал задавать вопросы во время словесности.
Из книги А.С. Новикова-Прибоя «Цусима»
Период новобранства длился около четырех месяцев и запечатлелся в моей памяти, как отвратительный сон. Капралы, инструкторы, фельдфебель принимали самые решительные меры к тому, чтобы вышибить из нас деревенский дух. В шесть часов утра горнист на дворе играл побудку. Мы очумело вскакивали, заправляли свои койки, наскоро пили чай с черным хлебом и целым взводом в сорок человек становились в своей камере на гимнастику. Инструктор командовал, а мы выкидывали руки вперед, вверх, в стороны, вниз. Против гимнастики ничего нельзя было бы возразить, если бы ей не злоупотребляла А нас, например, заставляли проделывать бег на месте с выкидыванием колен то вперед, то назад до тех пор, пока не только все белье становилось мокрым от пота, но и разбитые подошвы сапог промокали насквозь. Еще труднее было выполнять «лягушечье путешествие».
Заключалось оно в том, что все сорок человек опускались на корточки в затылок друг другу и, выставив руки вперед, прыгали вдоль стен камеры, по несколько раз огибая ряды коек. Тут все зависело от настроения инструктора. Если он был не в духе, то это глупейшее прыганье затягивалось, и тогда глаза застилались зеленым туманом. Некоторые новобранцы не выдерживали такой пытки и падали.
— Отяжелели, окаянные, с мякинным брюхом! — ревел инструктор и подбадривал падающих пинком.
Потом нас выгоняли во двор. Там учились маршировке, всяким захождениям, поворотам, ружейным приемам, бегали по двору. Инструктор говорил нам;
— Если я скомандую «смирно», это значит — не дыши, замри. Забудь, как отца и мать зовут, и только слушай, что дальше последует от меня.
Вообще он относился к нам так, как будто алы были его заклятыми врагами.
После обеда наступал короткий отдых, но иногда в это время заставляли нас пилить и колоть дрова. Потом опять выгоняли на двор для маршировки.
Вечером, поужинав, мы, измученные, отупевшие, рассаживались по койкам в камере и занимались словесностью. Из нее мало мы черпали знаний. Главный упор делался на дисциплину, на чинопочитание, на верность царю. Заучивали имена царствующего дома и фамилии начальства, начиная от командующего флотом, кончая ротным командиром. Тут же инструктор рассказывал нам, как различать чины. Все делалось с матерной бранью и мордобойством
Часов в семь все занятия кончались. Пока не скомандуют «на справку», мы могли писать письма, читать книги и веселиться. Некоторые, пользуясь небольшим промежутком свободного времени, бежали на двор, в прачечную, в кирпичное помещение и стирали там свои рубашки и подштанники. Развешивать их на чердаке было рискованно — украдут. Поэтому каждый новобранец расстилал сырое белье под простыню, чтобы за ночь просушить его температурой своего тела.
Тяжелый рабочий день заканчивался справкой и вечерними молитвами. Привертывались газовые рожки, за исключением одного. В камере было полусумрачно. Кто-нибудь из нас назначался дежурным, а остальные тридцать девять человек укладывались спать — каждый на свою койку, на соломенный тюфяк, под серое казенное одеяло. Воздух сгущался смрадом человеческих испарений.
Так продолжалось изо дня в день. Я исполнял все служебные обязанности самым добросовестным образом. Меня нельзя было причислить к глупым ребятам. До службы я прочитал порядочно книг, а это очень помогло мне в изучении словесности. При своей недурной памяти я в один месяц выучил матросский устав наизусть. Новобранцев до принятия присяги не полагалось отпускать в город поодиночке, но инструктор, ввиду моего необычайного успеха по словесности, сделал для меня исключение.
— Смотри в оба, — наказывал он мне. — Знай, кому нужно козырнуть, кому стать во фронт.
— Есть, господин обучающий.
— Если подведешь меня, я из тебя яичницу сделаю.
Все это мне казалось нормальным
Гуляя по городу, я отдавал честь встречающимся офицерам по всем правилам.
Правда, проделывал я это не без волнения, но ко мне никто не придирался.
Захотелось посмотреть офицерские флигели[285], и я, свернув на Екатерининскую улицу, зашагал вдоль сквера.
Как после узнал я, здесь никогда не гуляли матросы, боясь столкновения с начальством. Не прошло и пяти минут, как навстречу мне показался человек с седыми бакенбардами. Какой у него был чин?