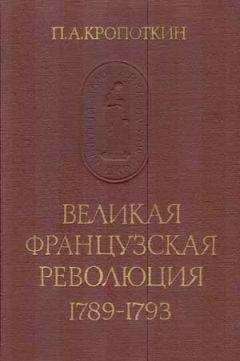К чему вооружаться, к чему спешить к границе, когда Законодательное собрание и партия, стоящая у власти, — открытые враги республики? Они делают все возможное для сохранения власти короля. Не дальше как за две недели до 10 августа, т. е. 24 июля, жирондист Бриссо не громил ли кордельеров, стремившихся к республике, и не требовал ли он, чтобы меч закона покарал их?[164]. А теперь, после 10 августа, Клуб якобинцев — место сборища зажиточной буржуазии — хранит упорное молчание вплоть до 27 августа о самом главном вопросе, волнующем народ: «Будет, или не будет сохранена королевская власть, опирающаяся на немецкие штыки?»
Бессилие правителей, малодушие «вождей общественного мнения» в такую опасную минуту неизбежно должны были довести народ до отчаяния. И только читая газеты того времени, воспоминания и частные письма, писанные в эти дни, только переживая волнения, пережитые Парижем с момента объявления войны, можно понять всю глубину отчаяния городского населения. Вот почему мы приведем здесь вкратце главные факты.
В момент объявления войны Лафайета все еще превозносили до облаков, особенно в среде буржуазии; все радовались, что ему поручено было верховное командование войсками. Правда, после избиения на Марсовом поле в июле 1791 г. на его счет возникли кое-какие подозрения, нашедшие отклик в речи Шабо, произнесенной в Собрании в июне 1792 г. Но Собрание заклеймило Шабо именем дезорганизатора и изменника и заставило его замолчать.
Но вот через несколько дней, 18 июня. Собрание получило от Лафайета знаменитое письмо, в котором он обличал якобинцев и требовал закрытия всех клубов. Письмо это пришло через несколько дней после удаления королем жирондистского министерства («якобинского», как тогда говорили), и это совпадение казалось знаменательным. Собрание, однако, не обратило на это внимания и выразило сомнение в подлинности письма; народ же вполне естественно стал подозревать, не находится ли само Собрание в заговоре с Лафайетом?
Между тем брожение все росло, и наконец 20 июня произошло первое движение. Народ, прекрасно организованный по секциям, наводнил Тюильри. Движение кончилось, как мы видели, довольно скромно; но буржуазия была напугана, и Собрание ударилось в полную реакцию, издав декрет, направленный против всяких сборищ. Затем 23 июня приезжает Лафайет. Он является в Собрание, признает письмо от 18 июня своим и подтверждает его. В резких выражениях он порицает движение 20 июня и еще более резко обличает всех якобинцев. Люкнер, командующий другой армией, присоединяется к Лафайету в осуждении 20 июня и в выражении верноподданных чувств к королю. Затем Лафайет разъезжает по Парижу «в сопровождении 600 или 800 офицеров из парижского войска, окружающих его экипаж»[165]. Теперь мы знаем из обнародованных с тех пор документов, зачем Лафайет приезжал в Париж. Он приезжал, чтобы убедить короля дать себя похитить, а затем поставить его под защиту войска. Теперь это достоверно известно; но и тогда уже к генералу начинали относиться с подозрением. В Собрание было даже внесено б августа предложение о предании его суду; но большинство, как мы видели, высказалось в его пользу. Лафайет торжествовал; но что же должен был думать об этом народ[166].
«Боже мой, как плохо идут дела, друг мой! — писала г-жа Жюльен своему мужу 20 июня 1792 г., — поведение Собрания так раздражает массу, что если Людовику XVI вздумается взять хлыст Людовика XIV и прогнать этот бессильный парламент, то ему будут рукоплескать со всех сторон, правда из очень различных побуждений; но какое дело до этого тиранам, раз такое единодушие помогает их расчетам! Буржуазная аристократия в восторге, а народ подавлен отчаянием; поэтому надвигается гроза»[167].
Сопоставим эти слова с приведенными нами выше словами Шометта и мы поймем, что в глазах революционного элемента парижского населения Собрание было тормозом, замедлявшим ход революции, или хуже того[168].
Между тем наступает 10 августа. Парижский народ, организованный по секциям, овладевает движением. Он назначает революционным путем свой Совет Коммуны для придания восстанию большего единства. Он изгоняет короля из Тюильри, с боя берет дворец, и Коммуна заключает короля в башню Тампль. Но Законодательное собрание остается, и оно скоро становится местом сборища всех роялистских элементов.
Буржуа-собственники сразу замечают, что движение приняло народный характер, что оно идет в направлении равенства, и они еще больше начинают держаться за короля. Тысячи планов создаются тогда с целью передать престол или ребенку-наследнику (так и было бы сделано, если бы мысль о регентстве Марии-Антуанеты не внушала всеобщего отвращения), или какому-нибудь другому французскому или даже иностранному претенденту. Так же, как и после вареннского бегства, заметно усиливаются чувства, благоприятные для королевской власти, и в то время как народ громко требует определенных заявлений против монархии, Собрание, как и всякое подобное собрание парламентских политиков, боится скомпрометироваться, не зная еще, кто и что одержит верх. Оно склоняется скорее к монархии и старается задернуть дымкой старые преступления Людовика XVI, противодействуя всякой попытке изобличить их, что, конечно, должно было случиться, если бы началось серьезное исследование для открытия соучастников короля в заговоре.
Собрание решается уступить только тогда, когда Коммуна грозит ударить в набат, а секции заговаривают о массовом избиении роялистов[169]. 17 августа оно решается, наконец, назначить уголовный суд из восьми судей и восьми присяжных, избранных представителями секций. Этому суду предлагается, однако, не углубляться в расследование тех конспирации, которые велись в Тюильри раньше 10 августа, а ограничиться разысканием виновников событий этого дня.
А между тем доказательств существования заговора множество, и они становятся с каждым днем все определеннее. В бумагах, найденных после взятия Тюильри в письменном столе интенданта королевского дома Монморена, оказалось немало обвинительных документов, между прочим письмо принцев, доказывающее, что, направляя австрийские и прусские войска на Францию и организуя кавалерийский отряд из эмигрантов, чтобы идти вместе с ними на Париж, принцы действовали в согласии с Людовиком XVI. Там же оказался длинный список брошюр и листков, направленных против Национального собрания и якобинцев и изданных на средства королевского дома; среди них были листовки, имевшие целью вызвать вооруженное столкновение в момент прибытия в Париж марсельцев и призывавшие национальную гвардию к их избиению[170]. Найдено было, наконец, доказательство того, что «конституционное» меньшинство Собрания обещало последовать за королем, в случае если он оставит Париж, под условием, однако, чтобы он не удалялся дальше, чем на расстояние, определенное в конституции. Нашлось и многое другое, но все это тщательно было скрыто из боязни, чтобы народный гнев не обрушился на Тампль — тюрьму, где держали короля и его семью. «А может быть и на Собрание?» — спросим мы.
Наконец, обнаруживается измена в войске, которую давно можно было предвидеть. 22 августа узнают об измене Лафайета. Он сделал попытку увлечь за собой свое войско и повести его на Париж. В сущности этот план созрел у него уже давно; еще тогда, когда он явился 20 июня в Париж, чтобы нащупать почву. Теперь он наконец сбросил с себя маску. Он велел арестовать троих комиссаров, присланных к нему Собранием, чтобы сообщить армии о революции 10 августа. Старая лисица Люкнер тоже выразил ему свое одобрение.
К счастью, войско Лафайета не последовало за своим генералом, и 19 августа ему пришлось в сопровождении своего генерального штаба бежать за границу в надежде добраться до Голландии. Но тут он попался в руки австрийцам, которые отправили его в тюрьму. Даже с ним они обращались очень сурово; и это показывает, как намеревались австрийцы поступить с революционерами, если бы они попались им в руки. Муниципальных служащих из патриотов, которых захватили австрийцы, они тут же казнили как мятежников, а некоторым из них австрийские уланы отрезали уши и приколотили их ко лбу.
На следующий день пришло известие, что город Лонгви, обложенный неприятельскими войсками 20-го, тотчас же сдался, и в бумагах его коменданта Лаверня нашли письмо, в котором от имени Людовика XVI и герцога Брауншвейгского ему предлагалось изменить.
Итак, надеяться на армию больше нельзя было, и если только не рассчитывать на чудо, то остановить вторжение было уже невозможно.
В самом Париже «черных» (т. е. реакционеров, которых впоследствии стали называть «белыми») было множество. Очень многие, эмигранты вернулись, и нередко под рясой священника на улице можно было узнать военного. Вокруг башни Тампля все время плелись всевозможные заговоры, о которых догадывался народ, тревожно следивший за тюрьмой, где содержался король. Роялисты действительно все время пытались освободить короля и королеву либо силой, либо организовав их побег. Кроме того, они готовили общее восстание на тот день, 5 или 6 сентября, когда пруссаки будут уже в окрестностях Парижа, и даже не скрывали своих планов. Военными кадрами для этого восстания должны были послужить оставшиеся в Париже 700 человек швейцарцев. Они двинулись бы на Тампль, освободили бы короля и поставили его во главе движения. Все тюрьмы тогда были бы открыты, и заключенные выпущены, чтобы грабить город, для увеличения общего смятения; в это же время Париж был бы подожжен с разных концов[171].