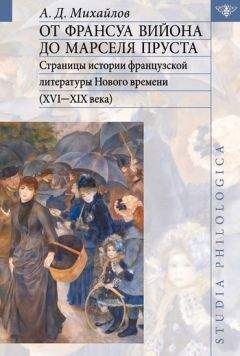Остается теперь обратиться к «отрывку» Гоголя «Рим». В этом незавершенном произведении следы влияния книг Стендаля не очень заметны. Вернее, на первых страницах, где дан краткий рассказ о политическом положении Италии после крушения наполеоновской империи, какие-то намеки, какие-то отзвуки чтения Стендаля еще слышны. Так, мы встречаем типично стендалевскую фразу: «Мечтали о возвращении погибшей итальянской славы, с негодованием глядели на ненавистный белый мундир австрийского солдата»[253]. Но затем Гоголь уходит в решение совсем иных художественных задач. Позже (1 сентября 1843 г.) он так писал С. П. Шевыреву: «Идея романа вовсе была не дурна: она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но все можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества...»[254]. Как видим, идея «Рима» во многом перекликается со взглядами Стендаля на современное ему французское общество и общество итальянское. Вместе с тем замечание В. А. Десницкого, сделанное уже очень давно, в 1936 г., представляется нам все-таки слишком приблизительным и неточным. Исследователь писал тогда: «Детские годы, обучение, устремление в Париж, черты быта римской аристократии, восприятие славного прошлого Рима (Италии), противопоставление Рима и Парижа, Италии и Франции, – все эти темы в какой-то мере сближают гоголевского “римского князя” со стендалевским Фабрицием, сыном маркиза дель-Донго»[255]. Нет, все-таки не «все эти темы». Судьбы героев Гоголя и Стендаля глубоко различны, различны и их характеры. Разве что оба итальянцы, оба из знатного рода и оба молоды. На этом позволим себе не останавливаться, отметим лишь, что «черты быта аристократии» в обоих произведениях несколько похожи, но трудно предположить, что могло бы быть иначе.
Интереснее обратиться к способам изображения обоими писателями женской красоты. Гоголь два раза, на первой странице «Рима» и в его конце, дает пространный и восторженный портрет Аннунциаты; например: «Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, – как художник, глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить!»[256]. Тут цитату прервем – дальше все в том же приподнятом духе. У Стендаля таких развернутых описаний женской красоты мы не найдем (речь идет о «Пармском монастыре»). Французский писатель всегда более краток и сдержан, он ограничивается лишь указанием, что женщина, о которой идет речь, – красавица. Иногда добавляется, что это «красота итальянская». Поэтому в романе равно красивы (не одинаково, конечно, а каждая по-своему) и мать Фабрицио, и герцогиня Сансеверина, и актриса Мариетта, и певица Фауста, и Клелия Конти. Правда, для последней, ощутимо выдвигающейся в романе на первое место, как бы сделано исключение. Вот как описана Клелия в пятнадцатой главе: «Девичий стан Клелии Конти был еще слишком тонок, а лицо напоминало прекрасные образы Гвидо; не скроем, что в сравнении с образцами античной греческой красоты, черты Клелии были несколько резкими, а губы ее, пленявшие каким-то трогательным складом, были по-детски пухлыми. Очарованием этого лица, сиявшего чистой прелестью и дивным отблеском благороднейшей души, было то, что при всей его необычайной, редкостной красоте оно нисколько не напоминало греческие статуи»[257].
В отличие от Гоголя Стендаль как бы колеблется: он описывает красоту совершенную, но не «полную», не ослепительную, а очаровывавшую и т. д. И обратим внимание на одну деталь: и Гоголь, и Стендаль, в качестве совершенного образца, вспоминают скульпторов древности, но выводы делаются противоположные – Клелия не напоминает греческие статуи, тогда как Аннунциата как раз напоминает их красоту.
Можно еще добавить, что Гоголь, в отличие от Стендаля, очень прямолинеен и нетерпим в оценке французской культуры – во всевозможных ее проявлениях. Поэтому для его «Рима» типичны резкие противопоставления Парижа и Рима, парижан и римлян, женской красоты, свойственной француженкам, красоте итальянок.
Подводя некоторые итоги, притом самые предварительные, мы ответим на поставленные нами вопросы с разной степенью уверенности.
Гоголь имел возможность познакомиться со Стендалем в Париже на рубеже 1836 и 1837 гг. в каком-нибудь светском салоне. Они могли продолжить это знакомство в Риме, хотя бы потому, что жили почти рядом, близ площади Испании, и посещали одни и те же кафе. В данном случае мы можем говорить лишь о возможности таких встреч.
Гоголь был наверняка неплохо знаком с печатавшимися в русской прессе переводами отрывков из произведений Стендаля, а потом и с его книгой «Прогулки по Риму». Возможно его знакомство и с «Пармским монастырем».
Что касается воздействия на Гоголя произведений Стендаля, описывающих Италию (в том числе и «Пармского монастыря»), то говорить о влиянии, тем более о подражании совершенно нельзя. Но двух писателей роднило неприятие напора реакции в Италии и мелочной буржуазности французского общества, его политиканства. Вот что писал Гоголь Н. Я. Прокоповичу из Парижа 25 января 1837 г.: «Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобой»[258]. Прислушаемся: «счастливцы праздные». Это ли не стендалевские happy few?
«ИТАЛЬЯНСКИЕ ХРОНИКИ» СТЕНДАЛЯ[259]
Составляя библиографию к своей книге «Стендаль и “Итальянские хроники”, Шарль Дедейан включал в нее лишь самые основные работы. Это и понятно: иначе размеры библиографии намного бы переросли объем самого исследования. Действительно, по поводу итальянских произведений Стендаля написано уже немало. Интерес к ним закономерен. Стендаль возвращался к теме Италии на всем протяжении своего творчества, и в свете итальянских произведений, безусловно, яснее и понятнее становятся остальные его книги. Все это делает чрезвычайно важным круг проблем, связанных с «итальянизмом» писателя.
Автор уделяет главное внимание биографии Стендаля, за каждым образом его книг стремится найти реального прототипа, реальную коллизию из жизни писателя. Не стоило бы спорить с Ш. Дедейаном, если бы, безусловно, очень важный биографический аспект не заслонял собой все остальные, особенно политическую и социальную проблематику. Однако Дедейан сознательно стремится избежать подобных вопросов. Правда, против фактов трудно идти, они сами говорят за себя. Автор бывает вынужден обращаться к политическим проблемам, указывать на то, что «Стендаля волновала также Италия политическая, ставшая добычей мракобесия Священного Союза» (с. 72).
Ему приходится говорить о республиканизме Стендаля, о его друзьях-революционерах, об участии Стендаля в движении карбонариев, что, как известно, заставило австрийское правительство выслать писателя в 1821 году из пределов Северной Италии, отказать в 1831 году в его назначении французским консулом в Триесте. Но эти факты явно не устраивают исследователя, он говорит о них мимоходом. Что же касается любовных похождений автора «Красного и черного», тут Дедейан становится необычайно разговорчивым и красноречивым.
Отказ от рассмотрения политических проблем (даже теснейшим образом связанных с биографией Стендаля) и преувеличенный интерес к незначительным биографическим деталям при интерпретации художественных произведений определили многие недостатки книги, многие просчеты исследователя.
Каковы же причины, заставившие Стендаля обратиться к Италии? Что искал он в ней, что влекло его к родине Данте, Рафаэля и Сильвио Пеллико? Это и является первым вопросом, ответ на который мог бы содержаться в книге Дедейана. Однако автор не отвечает на этот закономерный вопрос, по сути дела обходит его стороной. Вернее, он останавливается лишь на биографическом аспекте данной проблемы, он подробно пишет о пребывании писателя в Италии, о его встречах с представителями (а чаще, представительницами) итальянского общества. Любовными увлечениями писателя и объясняет Ш. Дедейан его интерес к Италии.
Однако все творческое наследие писателя, его дневники, письма, статьи, заметки говорят о другом. Стендаль любил эту страну, ее талантливый народ, ее культуру и природу. В обращении к Италии сказались ярко выраженные антифеодальные настроения писателя. Италия привлекала его смелыми людьми, стойко боровшимися с режимом Реставрации. Так было в 20-е годы. После революции 1830 года, с наступлением во Франции царства денежного мешка, проявились антибуржуазные настроения Стендаля, писавшего, что он «предпочел бы проводить каждый месяц две недели в тюрьме, чем жить вместе с обитателями лавок»[260]. Стендаль – политический мыслитель и Стендаль-художник шли рука об руку. Он считал, что только в стране, находящейся в состоянии революционного подъема, возможно свободное проявление страстей, интересовавших его как писателя. «Такое состояние страны, – писал Стендаль, – сообщающее всем сильные страсти, делает нравы естественными, разрушает всяческие нелепости, условные добродетели, глупые приличия, делает молодежь серьезною» (т. VII, с. 116).