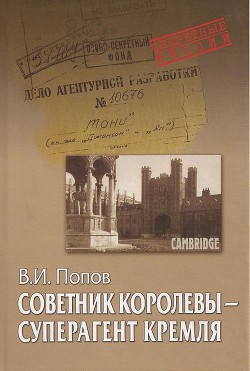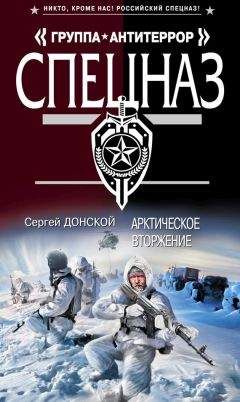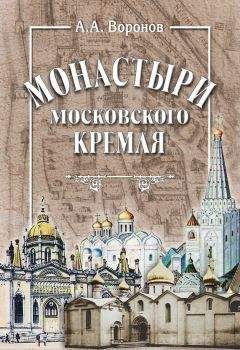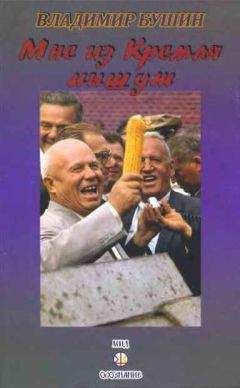На следующее утро они встретились. Когда зашла речь о политике, выяснилось глубокое расхождение между собеседниками. Стрейт упрекал СССР в том, что он не принял американского «плана Баруха» об атомной энергии и «план Маршалла». Но Гай и Антони явно не хотели ссориться и перевели разговор на другую тему.
— Вопрос состоит в том, — сказал Антони, — способны ли мы к интеллектуальному сотрудничеству.
— Конечно.
— Значит, Вы по-прежнему с нами?
— Вы знаете, что нет.
— Означает ли это, что Вы полностью настроены недружественно в отношении нас?
— Если бы это было так, разве я был бы здесь с Вами?
Сам Стрейт признал, что его ответ был очень неопределенным. Скорее, он, как и его собеседник, хотел уклониться от конфронтации. Берджес и Блант из его ответов могли сделать вывод, что Стрейт, не желая продолжать работать на советскую разведку, вместе с тем не намерен выдавать их американским и английским спецслужбам.
Позиция Стрейта объяснялась отнюдь не верностью друзьям, не благородством, он просто опасался возможного наказания и краха своей деятельности и, как человек не очень решительный, предпочел, чтобы события разворачивались без его участия — авось все обойдется. К сожалению, его мемуары, на основе которых мы строим свои суждения, полны умолчаний и недомолвок; его доводы в оправдание своего поведения часто малоубедительны.
Чем объясняет сам Стрейт свое двойственное поведение? Почему он не выдал их тогда же американской разведке?
Тем, что будто бы Берджес и Блант прекратили свою связь с советскими спецслужбами. А откуда он это знает? Они ему об этом не говорили. Тем, что он сам после свидания с Берджесом окончательно отказался от своих советских друзей и сказал им «до свидания». Но это не значит, что он порвал связи с КГБ.
Дальнейшие события развивались так: в марте 1951 года, уже в ходе корейской войны, Стрейт направился в английское посольство в Вашингтоне, чтобы там обсудить с английскими дипломатами свою статью по вопросам экономики, которую он готовил для журнала «Нью рипаблик». Случайно у посольства он встретил Гая Берджеса.
Гай сказал Стрейту, что он работает в Вашингтоне по линии МИД Англии и сфера его деятельности — Дальний Восток.
— Если ты здесь с октября прошлого года, значит, ты знаешь обо всех наших планах? — спросил его Майкл, имея в виду конфликт в Корее.
— Каждый знает о них.
— Включая китайцев?
— Конечно.
Разговор обострился, и Стрейт сказал:
— Слушай, Гай. Мы, США, сейчас находимся в состоянии войны, и если ты не покинешь правительственную службу (а Гай будто бы в свое время обещал это Майклу. — В.Я.), то клянусь, я буду действовать. (Стрейт тем самым хотел сказать, что, будучи дипломатом, Гай продолжает выдавать правительственные секреты «врагу». — В.Я.).
Майкл не объяснил, как он будет действовать. Гай улыбнулся в ответ на слова Майкла и сказал: «Я вскоре возвращаюсь в Англию и подаю в отставку».
М. Стрейт все еще колебался, что делать — выдать кембриджских друзей, признаться в своей шпионской работе или все оставить как есть. Это было в марте 1951 года, но в июне того же года, развернув газету «Вашингтон пост», Стрейт прочитал, что «два британских дипломата — Гай Берджес, 40 лет, и Дональд Маклин, 38 лет, покинули Англию и бежали в Россию».
Предательство
Это известие, конечно, потрясло Стрейта. О том, как он поступил, мы знаем только с его слов. Он будто бы немедленно обратился к одному из английских дипломатов в Вашингтоне, которого хорошо знал и с которым у него были тесные отношения, и сказал ему:
— Я располагаю определенной информацией о Гае Берджесе и хотел бы сообщить ее английскому правительству.
— Вы тоже? — сказал, улыбнувшись, его друг. — Но Вы займете последнее место в этой цепи. — Он дал таким образом понять, что уже многие поторопились рассказать о своем знакомстве и обелить себя, и посоветовал этого не делать. Характерно, что фамилию этого друга-советчика Стрейт не назвал, зато подробно рассказал о своих сомнениях, возникших после этого разговора.
«Как поступить? Ведь мое признание неминуемо приведет к Антони Бланту, но я уверен, что Блант перестал работать на иностранную разведку и вернулся к своей «основной» работе историка искусств, — рассуждал он. — А если о его прошлом уже известно английским властям, то этого вполне достаточно, и мне не нужно ничего сообщать. Все, что связано с Антони Блантом, — это дело давнего прошлого, и он теперь мне не опасен».
И заключил он эти рассуждения словами, которые и занес в свои мемуары: «Со смешанным чувством облегчения и беспокойства я вернулся к своей обычной работе», не предпринимая никаких действий.
Многие мемуаристы пишут свои воспоминания для того, чтобы обелить себя, и Стрейт не является исключением. До тех пор, пока над ним не нависла непосредственная угроза разоблачения, он предпочитал отмалчиваться. Сам Стрейт озаглавил свою книгу «После того, как я так долго молчал» и опубликовал ее, как я писал, только после того, как газета «Дейли мейл» напечатала 26 марта 1981 г. статью своего корреспондента под названием «Американский гражданин в течение 26 лет хранит секрет Бланта». Только после того, как вся страна задалась вопросом, кто этот «тихий американец», он приступил к написанию своей книги, и через год она появилась на книжных полках магазинов Англии и Америки.
«Это, конечно, долгое время для нелегальной деятельности. Почему же я так долго ждал? — задавал сам себе вопрос Стрейт и отвечал на него так: — После окончания войны, и в особенности в 1946–1948 годах, когда Сталин сокрушил независимость Польши и Чехословакии, я начал беспокоиться о судьбе демократии в Польше и Чехословакии, о судьбе демократии на Западе».
Три раза, по его словам, в 1949 и 1951 годах, он направлялся в британское посольство в Вашингтоне с намерением встретиться с сотрудником английской контрразведки и рассказать обо всем, но каждый раз не решался это сделать. Наконец, в четвертый раз он встретился со своим кузеном, который занимал высокий пост в Центральном разведывательном управлении США, чтобы рассказать ему всё. Но, как свидетельствует сам Стрейт, он представил себе все ужасные последствия — суд в Англии, о котором станет известно в Америке. В английском суде придется столкнуться с Блантом, а дальше в США предстать перед Комиссией по расследованию, которую возглавлял Маккарти. Но это означало бы крах благосостояния двух семей — его и Бланта, а не только его собственной карьеры. В условиях маккартизма в Америке последствия для всех участников этого дела могут быть ужасными.
Доводы эти убедили Стрейта, и он отложил признание до лучших времен… до 1963 года.
Казалось, ничто не предвещало осложнений для Стрейта. О Берджесе и Маклине, бежавших в Москву, понемногу стали забывать. Положение Бланта было прочным. Он продолжал служить при королевском дворе. Жизнь Стрейта также текла благополучно. Он шел в гору, и только, может быть, какой-нибудь перебежчик из КГБ, которых много развелось в 50-е и 60-е годы, мог выдать его. Но карьера советских разведчиков, в особенности нелегалов, зависит иногда от нелепых и совершенно непредвиденных случайностей. И если бы их не было, то, возможно, и Стрейт никогда не признался бы в своих связях с советской разведкой, не выдал бы Бланта, и тот продолжал бы свою деятельность разведчика до конца жизни.
А случилось то, что, на первый взгляд, не имело никакого отношения ни к Стрейту, ни к Бланту. В 1961 году на выборах в США одержал победу Джон Кеннеди. На следующий год энергичный молодой президент Америки, вникавший в самые различные стороны жизни страны, обратил особое внимание на развитие культуры и искусства в США. Он решил учредить специальную комиссию по этому вопросу. М. Стрейт как раз в этом году опубликовал два романа. Его имя стало еще более заметным в кругах американской интеллигенции. Именно в это время ему позвонил специальный помощник президента Артур Шлес-синджер и спросил, не возражает ли он занять пост председателя Комитета по делам искусств. Это было в мае 1963 года. Стрейт, будучи занятым подготовкой книги, отказался.