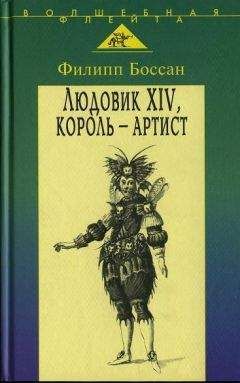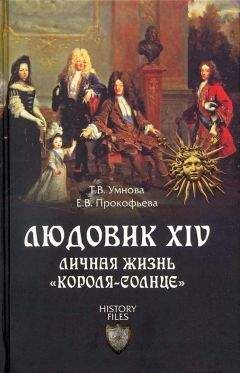В восемь часов к нашему Собранию возвращается - нет, не депутация, а доктор Гильотен, возвещающий, что она вернется, а также что есть надежда на одобрение, всецелое и безоговорочное. Он сам принес королевское послание, утверждающее и приказывающее осуществить самое свободное "распределение зерна". Менады от всего сердца рукоплещут королевскому посланию. В соответствии с этим Собрание принимает декрет, также воспринятый менадами восторженно: только не лучше бы было, если бы благородное Собрание догадалось установить твердую цену на хлеб - 8 су за восьмушку и цену на мясо - 6 су за фунт? Это предложение вносят множество мужчин и женщин, которых пристав Майяр уже не может сдержать; верховному Собранию приходится выслушать его. Пристав Майяр и сам уже не всегда осторожен в своих речах; когда же ему делают замечание, он извиняется, ссылаясь с полным основанием на необычность обстоятельств.
Но наконец и этот декрет утвержден, а беспорядок все продолжается, члены Собрания постепенно рассеиваются, председатель Мунье не возвращается что еще может сделать вице-председатель, как не раствориться самому? Под таким давлением Собрание тает, или, говоря официальным языком, заседание переносится на следующий день. Май-яра посылают в Париж с королевским "Указом о зерне" в кармане, его и нескольких женщин - в экипажах, принадлежащих королю. Туда же еще раньше отправилась стройная Луиза Шабри с "письменным ответом", за которым возвращались двенадцать депутаток. Стройная сильфида отправилась по темной, грязной дороге: ей нужно столько всего рассказать, ее бедные нервы так потрясены, что двигается она чрезвычайно медленно, впрочем, как и все в этот день по этой дороге. Председателя Мунье все еще нет, как нет и одобрения, всецелого и безоговорочного, хотя прошли наполненные событиями шесть часов, хотя курьер за курьером сообщает, что приближается Лафайет. Приближается с войной или миром? Пора и дворцу наконец решиться на то или другое, пора и дворцу, если он собирается жить, показать, что он жив.
Наконец прибывает Мунье, победоносный, радостный, после столь долгого отсутствия, неся с трудом полученное одобрение, которое, увы, сейчас уже не имеет большого значения. Представьте изумление Мунье, когда он обнаруживает, что его сенат, который он рассчитывал восхитить одобрением, всецелым и безоговорочным, полностью исчез, а его место занял сенат менад! Как обезьяна Эразма[298] подражала его бритью при помощи щепочки, так и эти амазонки с шутовской торжественностью путанно пародируют Национальное собрание. Они выдвигают предложения, произносят речи, принимают указы, все это вызывает по меньшей мере громкий смех. Все галереи и скамьи заполнены, могучая рыночная торговка восседает в кресле Мунье. Не без трудностей, при помощи приставов и убеждений Мунье прокладывает путь к председательнице; прежде чем сложить с себя обязанности, торговка заявляет, что в первую очередь она, да и весь ее сенат, как мужского, так и женского пола, сильно страдает от голода (и впрямь, что такое один жареный боевой конь на такое количество народа?).
Опытный Мунье в этих обстоятельствах принимает двусмысленную резолюцию: собрать вновь членов Собрания барабанным боем, а также раздобыть запас продовольствия. Быстроногие гонцы летят ко всем булочникам, поварам, пирожникам, виноторговцам, рестораторам; по всем улицам бьют барабаны, сопровождаемые пронзительными голосистыми призывами. Они появляются появляются члены Собрания, и, что еще лучше, появляется продовольствие. Последнее доставляется на подносах и тачках: хлебы, вино, большой запас колбас. Корзины с яствами плавно передаются по скамьям: "и не было ни для кого недостатка в равной доле еды", как сказал отец эпоса[299], - самое необходимое в этот момент.
Постепенно около сотни членов Собрания окружают кресло Мунье, а менады освобождают им немного места: внимайте Одобрению, всецелому и безоговорочному, и приступим в соответствии с повесткой ночи к "обсуждению Уложения о наказаниях". Все скамьи переполнены, в темных галереях, еще более темных от немытых голов, заметно странное "сверкание" - от неожиданно появившихся резаков. Прошло ровно пять месяцев с того дня, когда эти самые галереи были заполнены красавицами, украшенными драгоценностями и высокими плюмажами, роняющими ослепительные улыбки, а теперь? Так далеко мы зашли в возрождении Франции! Не зря считается, что родовые муки самые страшные! Нет никакой возможности удержать менад от замечаний; они интересуются: "Какая польза от Уложения о наказаниях? То, что нам надо, - это хлеб". Мирабо оборачивается и львиным рыком увещевает их; менады рукоплещут, но снова вмешиваются. Вот так они, жуя жесткую колбасу и обсуждая Уложение о наказаниях, превращают эту ночь в кошмар. Чем это кончится? Но сначала должен прибыть Лафайет со своими тридцатью тысячами; он больше не может оставаться вдалеке, и все ожидают его, как вестника судьбы.
Ближе к полуночи на холме загораются огни - огни Лафайета! Раскаты его барабанов достигают Версальской аллеи. С миром или с войной? Терпение, друзья! Ни с тем, ни с другим. Лафайет пришел, но катастрофа еще не наступила.
Он столько раз останавливался и произносил речи по пути, что потратил на дорогу в четыре лиги девять часов. В Монтрейле, неподалеку от Версаля, все войско вынуждено было задержаться, чтобы глубокой ночью под проливным дождем дать с поднятой рукой торжественную клятву в уважении к королю и в верности Национальному собранию. Медленный переход успел смирить гнев, жажда мести стихла от усталости и мокрой одежды. Фландрский полк снова встал под ружье, но фландрцы превратились теперь в таких патриотов, что их уже не требуется "наказывать". Изнуренные дорогой батальоны останавливаются в аллее, у них нет сейчас более настоятельного желания, нежели укрыться от дождя и отдохнуть.
Беспокоится председатель Мунье, беспокоится дворец. Из дворца прислано приглашение: не будет ли месье Мунье любезен вернуться туда с новой депутацией как можно скорее; это по крайней мере объединит оба наши беспокойства. Тем временем беспокоящийся Мунье сам от себя уведомляет генерала, что Его Величество милостиво даровал нам одобрение, всецелое и безоговорочное. Генерал во главе небольшой передовой колонны мимоходом отвечает, произнеся несколько неопределенных, но любезных слов национальному председателю, бросает беглый взгляд на это смешанное Национала ное собрание, а затем направляется прямо к дворцу. Его сопровождают два члена парижского муниципалитета: они были избраны из трехсот для этой цели. Его пропускают через запертые снаружи и внутри ворота, мимо караульных и привратников в королевские покои.
Весь двор, женщины и мужчины, толпится у него на пути, чтобы прочитать свою судьбу на его челе, на котором написана, как говорят историки, смесь "печали, преданности и отваги", что производит странное впечатление. Король в сопровождении монсеньеров, министров и маршалов уже ожидает его. Он "пришел, чтобы сложить свою голову ради безопасности головы Его Величества", как высокопарно выражается он. Два члена муниципалитета излагают желание Парижа - всего четыре пункта вполне мирного характера. Первое, чтобы честь охранять его священную персону была возложена на Национальную гвардию, например на гренадеров Центрального округа, которые, будучи французскими гвардейцами, привыкли нести эту обязанность. Второе, чтобы было получено продовольствие, если возможно. Третье, чтобы в тюрьмы, переполненные политическими преступниками, были назначены судьи. Четвертое, чтобы Его Величество соизволил переехать и жить в Париже. На все пожелания, кроме четвертого, Его Величество охотно соглашается; можно сказать, что он еще раньше выполнил их. На четвертое же нужно сказать только "да" или "нет"; с каким бы удовольствием он сказал "да" и "нет"! Но в любом случае, благодарение Богу, разве они не расположены исключительно миролюбиво? Еще есть время на размышления. Самая страшная опасность, по-видимому, миновала!
Лафайет и д'Эстен выставляют стражу, гренадеры Центрального округа занимают кордегардию, где они в качестве французских гвардейцев размещались раньше, тем более что ее последние злополучные обитатели, лейб-гвардейцы, почти все ушли в Рамбуйе. Таков распорядок на наступающую ночь, и он принесет в эту ночь достаточно зла. После этого Лафайет и два члена муниципалитета с высокопарной любезностью отбывают.
Свидание было так коротко, что Мунье и его депутация еще не добрались до дворца. Так коротко и так удовлетворительно. Камень свалился у каждого с сердца. Прекрасные придворные дамы громко объявляют, что этот Лафайет, сколь он ни противен, на этот раз их спаситель. Даже старые девы соглашаются с этим, те самые тетки короля, Graille и ее сестры, о которых мы упоминали. Слышали, что королева Мария Антуанетта несколько раз повторила то же самое, Она одна среди всех женщин и всех мужчин в этот день имела мужественный вид высокомерного спокойствия и решимости. Она одна твердо понимала, что она собирается делать; дочь Терезы смеет делать то, что она собирается, даже если вся Франция будет угрожать ей, а собирается она оставаться там, где ее дети, где ее муж.