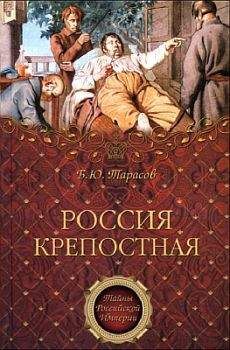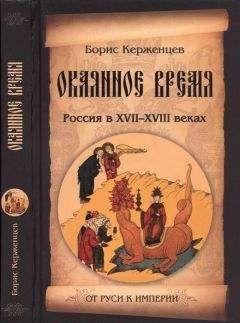на ноги кандалы, на шею — рогатку и заставляли работать в таком положении. Доведенная до отчаяния девушка попыталась зарезаться, но только поранила себя. Она прожила еще месяц, но кандалы с нее так и не были сняты по распоряжению помещика до самой смерти. Болотов отмечает, что это происшествие осталось без внимания властей, и господа не понесли никакого наказания.
Хроника самоубийств обыкновенно лаконична: «Дворовая девка помещицы Житовой Марья Глебова, покушаясь на свою жизнь, порезала себе ножницами шею; помещик Татаринов обращался с людьми своими жестоко и одного из них избил до того, что тот зарезался; вследствие дурного обращения с своею прислугою помещиков Щекутьевых восьмилетняя девочка покусилась на самоубийство, бросившись в озеро…»
Самоубийства крепостных детей от страха перед господским наказанием происходили особенно часто. Детская психика оказывалась беззащитной перед угрозой расправы за самый незначительный проступок, тем более что вокруг было достаточно примеров того, как обыкновенно происходили «взыскания» со взрослых. М.Е. Салтыков-Щедрин описал один из таких случаев в своем рассказе «Миша и Ваня». Это история двух мальчиков, которые, не дожидаясь утра, когда их ждет наказание от жестокой госпожи, решают убить себя. Один из них настроен решительно, другой немного робеет, хотя мысли о предстоящей экзекуции оказываются страшнее самоубийства.
Холодным-то ножом, чай, больно? — спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.
Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.
А помнишь, как повар Михей зарезался! Тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! А как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то…
Ну, что ж, что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом небось вылечился, а для чего вылечился? Все одно наказали дурака, а мы уж так полыснем, чтоб не вылечиться!..»
В основании этой истории заключено действительное происшествие в имении помещика Вельяшева, о котором Салтыков узнал в то время, как служил в должности вице-губернатора Рязанской губернии. Подробное описание этого дела содержится среди жандармских отчетов о событиях в России за 1859 год: «В Рязани два крепостных мальчика помещика Вельяшева, братья Афанасьевы, покушаясь зарезаться, нанесли себе раны, от которых один из них умер. Следствием обнаружено, что означенные мальчики вынуждены были к такому поступку жестоким обращением жены ротмистра Кислинской, которая, оставя мужа, проживала с Вельяшевым и, подчинив его своему влиянию, подвергала людей за маловажные упущения частым и строгим наказаниям и угрожал азасечь Афанасьевых. Кроме того, две ее женщины бежали, одна родила мертвого младенца, а одна утопилась. При этом Кислинская, подозревая отца и дядю в знании о побеге впоследствии утопившейся женщины, заставила Вельяшева отдать их в военную службу, где оба они умерли».
Салтыков, как высокопоставленное официальное лицо, потребовал от губернского прокурора провести тщательное расследование дела, особенно указывая при этом на то, что попытка самоубийства детей произошла «от многократно повторявшихся жестоких истязаний как со стороны владелицы их, так и со стороны г. Вельяшева». Однако сам Салтыков был вскоре переведен из Рязани в Тверскую губернию, и решение дела местными властями было немедленно передано на усмотрение дворянства, которое должно было решить — достаточно ли оснований для взятия имения Вельяшева и его сожительницы Кислинской в опеку. Рязанское дворянство оправдало своих собратьев, сославшись на недостаточность улик, подтверждающих их виновность в смерти крепостных людей.
Важно, что с точки зрения действовавших законов Российской империи самоубийство крепостного человека было преступлением, потому что являлось покушением на частную собственность помещика, которому принадлежал крепостной. За это преступление было предусмотрено наказание — те из самоубийц, кому не удалось по каким-либо причинам довести свое намерение до конца, подлежали порке и возвращению в имение господина, причем власть не интересовало то обстоятельство, что намерение покончить с собой явилось в них как раз от жестокостей помещика, даже в тех случаях, когда эти жестокости были официально признаны чрезмерными.
Так, за жестокое обращение со своими людьми имение рязанского дворянина Кайсарова было взято в опеку, но стало известно при этом, что крестьянин Перфильев высказывал о своем намерении убить себя. Однажды он даже якобы сказал: «ежели не будет лучше, то удавлюсь». Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить Перфильева в бунте против помещичьей власти и наказать его 15 ударами батогов. Неоднократно битый и посаженный на цепь помещиком Немчиновым крестьянин Яковлев в страхе перед очередным наказанием попытался покончить с собой, три раза ударив себя ножом в шею, однако раны оказались несмертельными. Суд приговорил его к 25 ударам плетью и ссылке в Сибирь. Но здесь стало известно, что попытки самоубийств крепостных людей случались в поместье Немчинова и раньше. При этом открылись такие подробности жестокого управления усадьбой помещиком Немчиновым, что губернатор был вынужден представить в Сенат предложение о взятии имения в опеку. Но Яковлева все же отправили в Сибирь, хотя и милостиво избавив от плетей «за предпринятое в стеснительном его положении самоубийство уже не первым»…
* * *
Безвыходное положение крепостных людей, оставшихся без всякой защиты государства перед проявлениями крайней жестокости, или, говоря языком казенных документов того времени, «неумеренной взыскательности» помещиков, приводило к последствиям, которые тревожили правительство еще сильнее крестьянских побегов, и тем более самоубийств. Покушения крестьян на убийство своих господ, грабежи и поджоги усадеб были так часты, что создавали ощущение неутихающей партизанской войны.
Это и была настоящая война, продолжавшаяся в России в течение всей эпохи существования крепостного права. Один современник писал о положении в России, что «граждане одной державы, как будто два иноплеменные народа, ведут между собою беспрерывную брань», а полицейские донесения из губерний и уездов напоминали собой фронтовые сводки о боевых потерях. Вот, например, совершенно типичный отрывок из доклада жандармского офицера на «высочайшее» имя за 1845 год: «В продолжение минувшего года: убито крестьянами 8 помещиков и 9 управителей, безуспешных покушений к тому обнаружено 12… Кроме того, в 11 имениях открыты зажигательства крестьянами домов своих владельцев… Жестокости владельцев над своими крестьянами обнаружены в 9 имениях; 24 помещика и 70 управителей уличены в смертельном наказании крестьян. Число умерших оттого простирается до 80 человек обоего пола, исключая 9 малолетних и 34 мертворожденных вследствие наказаний». За другие годы всегда то же самое, и обычная запись звучит приблизительно так: «В минувшем… году лишены жизни крестьянами своими помещики полтавской, смоленской, гродненской и тверской губерний… в смертельном наказании крестьян замечено 16 владельцев и 59 управителей. От жестоких наказаний умерло крестьян