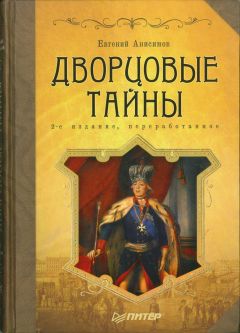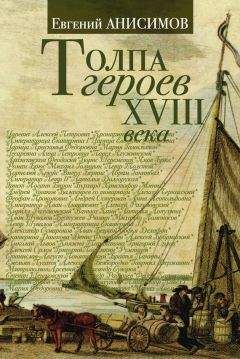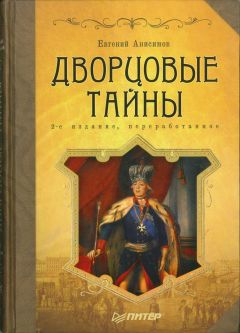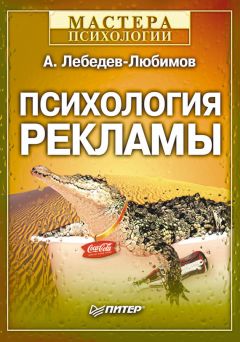Но не нужно упрощать Державина — он не был донкихотом. Конечно, когда-то взятая на себя роль правдолюбца, который режет правду-матку в глаза, вошла в его плоть и кровь. Эта роль отвечала его импульсивному характеру, но все-таки это была во многом игра, маска. На самом же деле он знал меру в обличениях и умел, когда нужно, помалкивать. Да иначе и быть не могло — Державин был и слыл необыкновенным жизнелюбцем. Любовью к жизни, еде, телесному удовольствию буквально пышут его стихи. Он так смачно, зримо описывает обед, что слюнки текут:
Я обозреваю стол — и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр — белый, раки — красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!
В своем доме на Фонтанке в одной из комнат он сделал настоящую восточную беседку с мягкими пуховыми диванами. Как было хорошо всхрапнуть здесь после обеда!
Он обожал и свою Званку — имение на берегу Волхова. Какое это наслаждение — выйти утром на балкон. Простор, благодать, душистый ветер с полей, «двор резвыми кишит рабами», в реке плещутся молодицы. До глубокой старости его волновали деревенские девы с их «остренькими глазками беглянок и смуглянок».
К женскому полу Державин был всегда слаб. В 1799 году он написал вполне эротическое стихотворение «Русские девушки», а уж «Шуточное пожелание» вошло даже в оперу П. И. Чайковского «Пиковая дама»:
Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях…
В поисках бессмертия
К концу XVIII века Державин достиг многого: он был сенатором, министром, он спорил с царями. Но министров, сенаторов было много, а он все же был один — поэт Державин. Как-то само собой получилось, что все признали в нем гения уже при жизни.
Конечно, Державин был прежде всего царедворец, карьерист. В его глазах орден был поважнее оды. Но с годами Гаврила Романович понял, что именно в литературе, поэзии — настоящий ключ к будущему бессмертию. А этого всегда желала его гордая, честолюбивая душа, мечтавшая «блеснуть на вышине». Не случайно он переложил с латыни на русский язык «Памятник» Горация со словами: «И слава возрастет моя, не увядая // Доколь славянов род вселенна будет чтить». Тогда он верил, что его стихи станут вечным памятником ему…
Но шли годы, поэт слабел, терял зрение, и постепенно его взору открывалась вечная и печальная истина, которая недоступна была ему молодому. За два дня до смерти, 6 июля 1816 года, он начертал ее формулу на грифельной доске:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
И если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Но он ошибся! Имя Державина не забыто Россией. Оно будет жить, пока звучит на свете русская речь, пока думают по-русски и пишут на русском языке стихи.
Запах столетнего меда,
слова и золота вязь…
Оды державинской мода
снова в цене поднялась.
Сколько ценителей тонких,
сколько приподнятых крыл!..
Видишь, как зреет в потомках
имя твое, Гавриил?
Будто под светом вечерним
встало оно из земли…
Вот ведь и книжные черви
справиться с ним не смогли.
Стоит на миг оглянуться,
встретиться взором с тобой —
слышно: поэты клянутся
кровью твоей голубой.
Булат Окуджава
Петушиный крик гения: Александр Суворов
Царев гнев — посланник смерти
«Зима наградила меня влажным чтением и унылой скукою», — так написал Суворов из села Кончанского Новгородской губернии своему петербургскому приятелю поэту Хвостову поздней осенью 1798 года. И теперь Кончанское — место, удаленное от столиц, а тогда это был медвежий угол, в котором особенно печально осенью и зимой…
Впрочем, Суворов не часто жил в столицах и легко переносил удаление от них. В Кончанском же было другое — он был здесь в ссылке. Гнев нового императора Павла I не затихал, и старый фельдмаршал это чувствовал. Не будем забывать, что для Суворова, человека служилого, как и для всех в России, была актуальна пословица: «Царев гнев — посланник смерти». Между тем Суворов привык к царевой ласке, ведь каждому подданному только царская милость давала уверенность в завтрашнем дне. Не было у него в Кончанском и свободы: каждое письмо вскрывалось, за ним во все глаза следили шпионы, а главное — полководец был оторван от любимого дела, от своих солдат и воздуха войны, которым он только и мог дышать. Жизнь двигалась к концу. Суворову шел шестьдесят девятый год, и он все больше и больше падал духом. В декабре 1798 года он написал императору Павлу о своем желании уйти в монастырь. Это было так не похоже на него, человека жизнерадостного, веселого, волевого, настроенного на борьбу.
Могучий дух в хлипком теле
Да, вся его жизнь прошла в борьбе с самим собой, своим слабым, хилым телом, со своей судьбой. Это началось еще в детстве. Он родился в 1729 году в семье Василия Суворова, сенатора, ставшего генералом при Екатерине II. Суворов-отец был скряга, эко номил каждый грошик, а поэтому пожалел денег на учебу слабенького, болезненного сына, решил обучить его дома и сделать из него чиновника. Поэтому он даже не записал Александра в гвардию, как было принято тогда в дворянских семьях.
Однако отец не ожидал, что в слабом теле Александра заключен такой могучий дух. Известно, какую большую роль в жизни ребенка играют мечты, они преображают даже самую скучную, обыденную обстановку. Хилый мальчик увлекся чтением, он бредил подвигами античных героев и полководцев. Мы знаем, что часто все это кончается ничем — детская мечта гаснет, как костер, залитый дождем.
Но дух Суворова уже получил пищу — он хотел быть военным, полководцем, героем, упорно тренировал и закаливал свое хилое тело так, что впоследствии оказался более выносливым и терпеливым, чем его сильные товарищи. Решающей стала встреча с Абрамом Ганнибалом — прадедом Пушкина. Как-то раз тот приехал в гости к старому приятелю Василию Суворову, поговорил с его сыном и сказал, чтобы отец не валял дурака и отдал бы Сашу по военной части. И тот был записан в Семеновский полк.
Солдатские университеты
В 1745 году шестнадцатилетний юноша был зачислен в гвардию, стал осваивать солдатское дело. Он прошел все ступеньки военной профессии, педантично и точно, как и должно быть в армии. Годы, проведенные в солдатской массе, были для Суворова настоящими университетами. На скудные деньги, получаемые от отца, он покупал книги и читал, читал. Устав был для него истинной Библией. Как-то раз в Петергофе императрица Елизавета подошла к стоящему на посту Александру и протянула ему, понравившемуся ей солдатику, серебряный рубль. Суворов деньги не взял, сказал, что делать это на посту устав запрещает. Тогда императрица похвалила часового, положила рубль на землю у его ног и сказала, чтобы при смене караула он деньги забрал.
Уже тогда будущий фельдмаршал не только читал, он изучал русского солдата. Не нужно представлять Суворова этаким лубочным, народным полководцем. Он относился к солдатам так, как и каждый военачальник: не колеблясь, посылал их на смерть, в огонь тысячами и потом хладнокровно переступал кровавые ручьи, текшие по полям его победных сражений. А как же иначе на войне!
Однако по-своему он берег русского солдата, знал и понимал его, умел с ним обращаться. Известно, что победитель Наполеона герцог Веллингтон на поле боя воодушевлял своих солдат словами: «Вперед, сволочи! Вперед, ублюдки, негодяи, висельники!» Все они были навербованы из отребья по кабакам и притонам и иных слов не понимали. Он же говорил, что если сегодня солдата похвалить, завтра он надерзит тебе. Но в России с солдатом — вчерашним помещичьим крестьянином — обращаться следовало по-другому. Мужик приносил в армию из деревни патриархальность, артельность, дух общины. Для него командир — отец-помещик, строгий, справедливый, может пошутить, а может и прибить. Суворов сумел найти нужный и удобный ему свободный тон отношений с солдатами так, что его любили как своего, но на шею не садились.