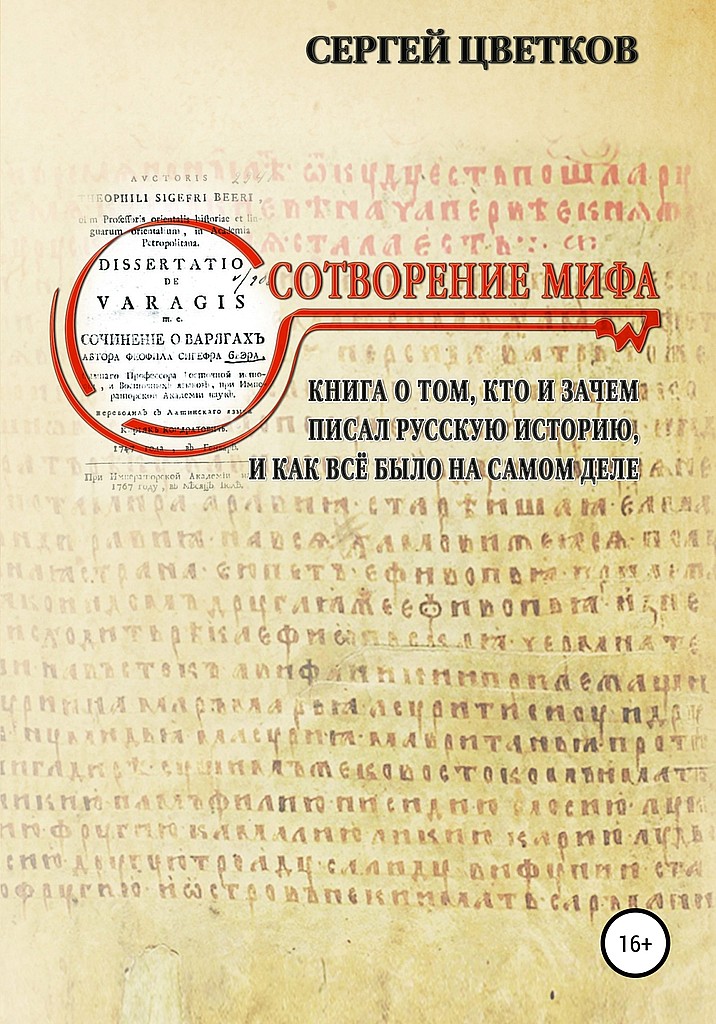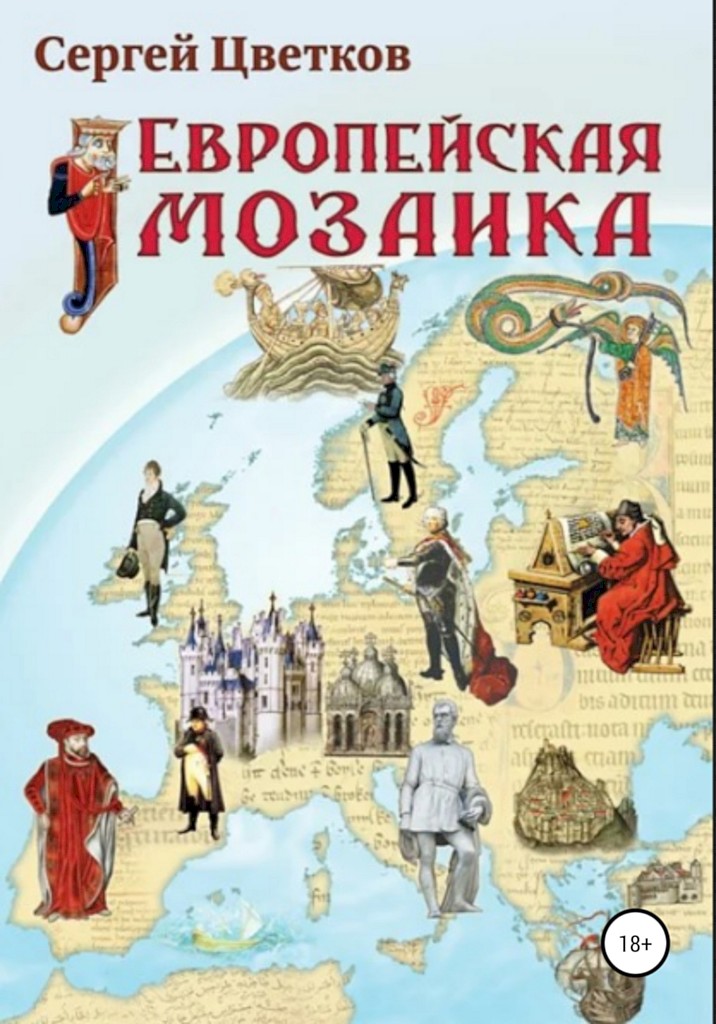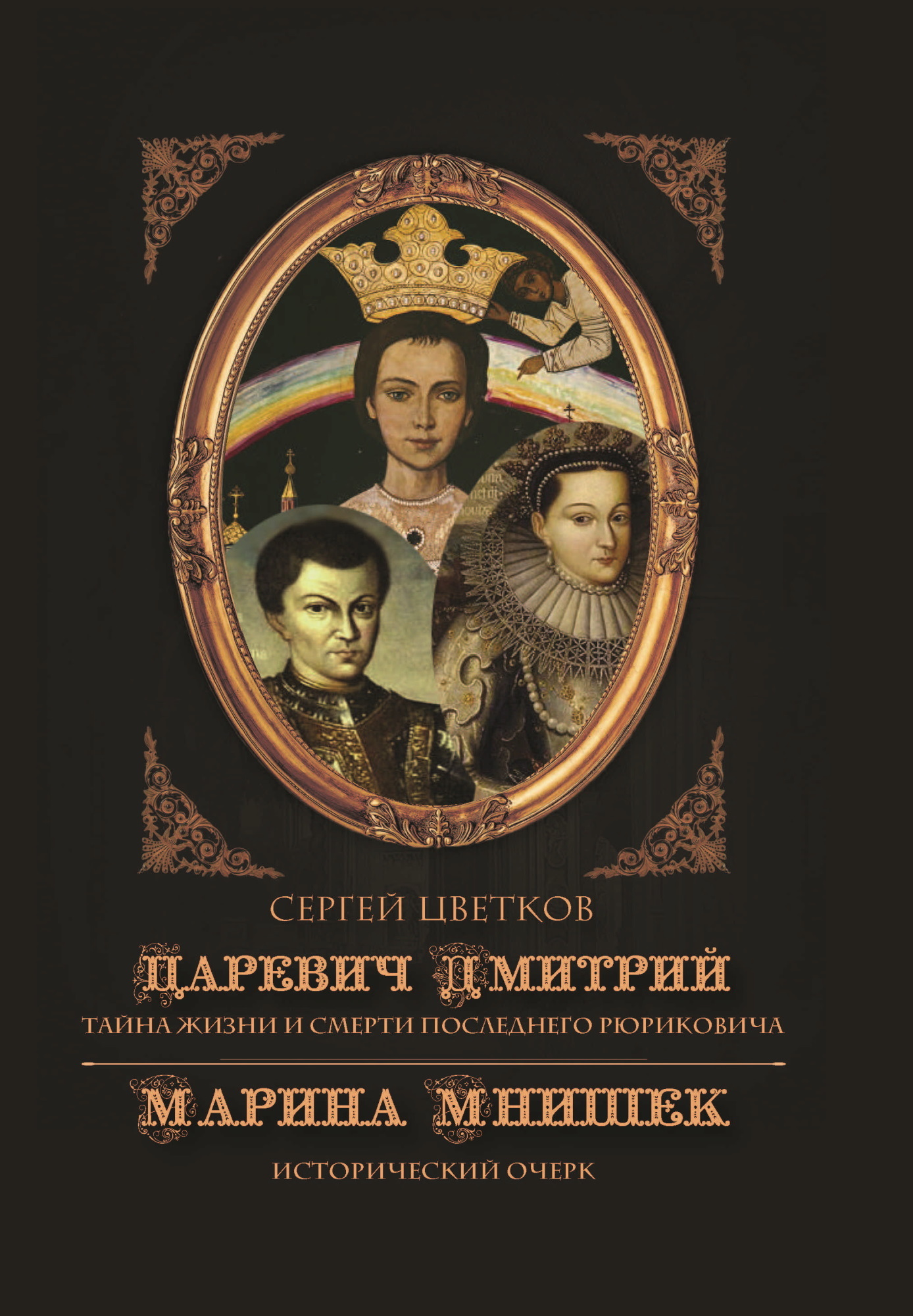противоречия из русских и иностранных источников.
Предложенный способ обработки источников, заключает Шлёцер, имеет то достоинство, что, если бы по каким-то причинам ему не удалось завершить задуманное, его преемник легко мог продолжить с того места, где он остановился.
Второй план указывал на необходимость распространения исторических знаний в русском народе. Шлёцер предлагал Академии шире издавать переводы классических сочинений иностранных писателей, а также составлять краткие научно-популярные компиляции многотомных трудов.
Сделав обзор предстоящих работ, Шлёцер выразил готовность взяться за плуг, если Академия соблаговолит облечь его в звание ординарного профессора с жалованьем в 1000 рублей.
В академическом собрании у Шлёцера находится много благожелателей. Противников всего двое. Один из них — Ломоносов. Уяснив из поданных Шлёцером в конференцию бумаг, что речь идёт о профессорстве и фактической монополии на разработку русской истории 29-летнего приезжего немчика, который накропал о российских древностях всего несколько пробных страниц и до сих пор не может сносно говорить по-русски, Михаил Васильевич воспринимает это как личное оскорбление. «Я жив ещё и сам пишу», — помечает он на бумагах Шлёцера напротив его обещания в течение ближайших трёх лет написать по-немецки серию очерков по русской истории на основе русских летописей и с помощью трудов Татищева и Ломоносова.
Официальный отзыв, составленный Ломоносовым для канцелярии, краток: «…оному Шлёцеру много надобно учиться, пока [с]может быть профессором российской истории. Сверх того, и места ему при Академии нет порожнего: господа Миллер и Фишер суть профессоры истории. Я ж и сам сочиняю российскую, и уже в печати. Итак, помянутый Шлёцер [профессором] российской истории быть не может, и нет места».
В конференции разгораются жаркие споры. Чтобы положить им конец, решено подавать голоса в письменном виде. Восемь профессоров, в том числе двое русских, голосуют за Шлёцера. Но мнения профессоров истории разделяются. В пользу Шлёцера высказывается один Фишер, впрочем, весьма сдержанно: «Если г. Шлёцер то, что обещал, исправить может, то я не сомневаюсь, чтоб не был он достоин произведения в академические профессоры». А вот Миллер — решительно против кандидатуры своего бывшего жильца. Не отрицая «способности и прилежания» Шлёцера, он утверждает, что тот мог бы оказаться полезен Академии только в том случае, если бы согласился «не токмо несколько, но много лет, по состоянию обстоятельств всю свою жизнь препровождать в здешней службе». Но поскольку к этому «склонить его не можно будет», Миллер советует отпустить Шлёцера на родину, назначив его «иностранным членом с пенсионом» и обязав, чтоб он без ведома Академии «ничего, что до России касается, в печать не издавал». «…Желаю я, — подытоживал он, — чтоб здесь на место господина адъюнкта Шлёцера был определён искусный и прилежный человек, который бы в моих ещё не доконченных сочинениях трудиться мог».
Ломоносов на этот раз выражается более пространно, удивляясь дерзости Шлёцера, «скоропостижности его в рассуждениях», «безмерному хвастовству» и «бесстыдным и безвременным требованиям». Однако же он не против пребывания Шлёцера в Академии, если только тот «не столь много о себе думая, примет на себя труды по силе своей».
Шлёцер считает отзыв Миллера гораздо опаснее для себя, чем отзыв Ломоносова: «Меня хотели приковать к России, хотя и не в самой России, но ещё хуже, за границею, только приковать золотыми цепями!» Академический «пансион» наложил бы вето на издание в Германии приобретённых Шлёцером исторических материалов и статистических таблиц, преградив ему кратчайший путь к научной известности.
Исход голосования приносит Шлёцеру некоторое успокоение, как вдруг дело принимает неожиданный оборот.
Третьего июля рано утром во двор пансиона Разумовского въезжает гремящая карета. Из неё выскакивает Тауберт и в три прыжка добегает до комнаты Шлёцера, который едва успевает встать с постели. Ошеломлённым голосом он требует, чтобы Шлёцер, как можно скорее, собрал и вернул все полученные от него рукописи. Шлёцер безмолвно подчиняется. Лакей тут же уносит эту кипу бумаг в карету — и Тауберт исчезает так же внезапно, как и появился, напоследок озадачив Шлёцера советом незамедлительно позаботиться и о своих бумагах ввиду возможного обыска.
Шлёцер обводит взглядом комнату. Что у него могут найти крамольного? Груду тетрадей и отдельных листов всех форматов и на всех языках, с неразборчивыми для постороннего глаза (Шлёцер при письме использовал понятную одному ему систему сокращений) выписками исторического, грамматического, статистического содержания — невинная литература, никаких неосторожных высказываний, ни одной подозрительной строки.
Но вдруг он вспоминает свою беседу с маклером о статистике, и по его спине ползут невольные мурашки…
Остальное утро он проводит, роясь в своих бумагах и сортируя их по четырём отделам: хроника, критика, грамматика, статистика. О первых трёх нечего и думать. Но вот четвёртая — что делать с ней? Сжечь плоды почти двухлетнего прилежания? Чёртов маклер!.. Шлёцер засовывает почти всю статистику в духовую печку в передней, а восемь особенно ценных листов с таблицами народонаселения, ввоза и вывоза товаров, рекрутских наборов прячет под пергаментным переплётом арабского словаря. Целый день он ходит вокруг печки, готовый в любую минуту поднести к бумагам огонь. Но наступает вечер, инквизиторы так и не являются, и Шлёцер спокойно засыпает посреди сохранённых бумажных сокровищ.
Через несколько дней причина тревоги разъясняется. Оказывается, Ломоносов, разделявший обеспокоенность Миллера тем, что Шлёцер может увезти с собой в Германию ценные рукописи, обратился со своими опасениями напрямую в Сенат. Сенаторы предписали коллегии иностранных дел не выдавать Шлёцеру паспорта, а канцелярии академической — отобрать у него неизданные манускрипты.
Канцелярия, однако, не решится на обыск и арест бумаг. Шлёцер получит от неё только ордер с вопросами: брал ли он из библиотеки книги и рукописи для снятия с них копий? Какие именно? Когда? С какой целью? Возвратил ли их опять в библиотеку?
Понятно, что адъюнкту Академии не составило труда ответить на эти вопросы, «не вставая с места». На руках у Шлёцера действительно были только снятые с документов списки.
Проходит месяц. Переписка с академической канцелярией продолжения не имеет, Шлёцера даже не вызывают для устной беседы. В августе Ломоносов пишет черновой отзыв на Шлёцерову «Грамматику российскую». Михаил Васильевич, посвятивший своей «Российской грамматике» десять лет упорных трудов, находит в «беспорядочном» сочинении Шлёцера «великие недостатки» и удивляется «нерассудной наглости» автора, который «зная свою слабость и ведая искусство, труды и