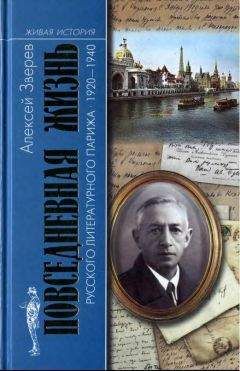Морковин, его гимназический товарищ, вспоминал, что у Штейгера было «сердце конкистадора». Этого совершенно не чувствуется в его стихах. Конкистадором скорее был еще один пражанин, а потом «монпарно» — Алексей Эйснер. Он еще в Праге опубликовал поэму «Конница», которая многих в эмиграции возмутила — прославлением революционной стихии в духе любимого им Эдуарда Багрицкого, описанием алозвездных шишаков на парижской площади и восторга парижанок «от глаз кудлатого Махно», картинами, воспринятыми как бестактные и пугающие. Например, такими:
Стучит обозная повозка,
В прозрачном Лувре свет и крик.
Перед Венерою Милосской
Застыл загадочный калмык.
И дальше:
Пал синий вечер на бульвары,
Еще звучат команд слова
Уж поскакали кашевары
В Булонский лес рубить дрова.
Эйснер и внешне напоминал какого-нибудь романтического капитана, воспетого в стихах Гумилева (или его подражателей, которых немало появилось в молодой советской поэзии): смуглое лицо, карие глаза, длинные густые волосы. В начале 30-х годов он перебрался в Париж, где полевел еще больше, повторяя путь Сергея Эфрона. Может быть, Эфрон, в чьи обязанности входила и вербовка добровольцев, поспособствовал Эйснеру, с самого начала гражданской войны в Испании рвавшемуся на фронт.
Эйснер стал адъютантом знаменитого генерала Лукача, он же Мате Залка, венгерский «красный офицер» и немножко писатель. Залка погиб на передовой, Эйснер после поражения Республики оказался в СССР, а дальше все было предсказуемо: пятнадцать лет лагерей, под старость — мемуары с многочисленными умолчаниями. Кое-что он записывал для себя, предоставив потомкам судить о нем честно. В частности, вот это: «Не моя заслуга, что в октябрьскую революцию мне исполнилось двенадцать лет, но ведь и не моя вина, что я очутился в эмиграции. Это аист выбирал, в какую трубу меня бросить».
Штейгеру в революцию исполнилось десять, и труба была та же самая, только вот он был совсем другой. Одно время, правда, сблизился с младороссами, националистической партией, которая присягала на верность монархии, хотя многое переняла и от большевизма. Однако на поэзии Штейгера это увлечение почти не сказалось. Похоже, ему, с юности тоже благоговевшему перед Гумилевым, больше импонировала импозантная и демоническая внешность лидера младороссов Казим-бека, чем путаная программа их партии.
Морковин дважды виделся со Штейгером в Париже, куда и он стремился (но считал, что нельзя там жить, не пропитавшись стихами Маяковского, а для «монпарно» это было неупоминаемое имя). Штейгер уже не бывал на литературных встречах — они наскучили своим однообразием, но взял Морковина на собрание младороссов, которое в тот вечер удостоил посещением великий князь Дмитрий Павлович, один из организаторов убийства Распутина. По соседству проходил митинг перековавшихся и сочувствующих коммунизму. Штейгеру все это, видимо, было неинтересно. Туберкулез принял у него тяжелые формы, впереди опять был санаторий — швейцарский, где он и умер через несколько лет, в разгар войны.
В юности ему грезилось, что жизнь он проживет, «как ветер — вперед и вперед, но ветру — всегда непокорным». Монпарнас исцелил его от таких самообольщений. Пришло, и уже не прошло, совсем другое настроение:
Не до стихов… Здесь слишком много слез,
В безумном и несчастном мире этом.
Здесь круглый год стоградусный мороз —
Зимою, осенью, весною, летом.
«Умирающему не пристали пестрые одежды, и в комнате его не принято говорить громко, — писал о монпарнасских лириках Вейдле. — Парижские поэты исповедуются вполголоса и заботятся больше всего о чистоте». Стихи Штейгера идеально отвечают этому описанию.
Дружившая со Штейгером Шаховская в своей книге «Отражения» приводит несколько его писем, содержащих клятву на пожизненную верность Монпарнасу. Пусть это «деклассированная, разночинская, полуеврейская, безнадежная» среда, но на ней «все же тень от Петербурга, от Петербургского периода русской литературы», и она «мне чрезвычайно мила». Это Штейгер счел, что закрывшиеся монпарнасские кафе предвещают всемирную катастрофу, и он же написал Шаховской: «Париж. Все о Париже. Решительно все, начиная со сплетен… и кончая сплетнями, — потому что это самое интересное и все равно ничего другого нет».
Так, в разговорах у стойки, когда его выпускали из больниц, он и прожил отпущенный ему краткий срок. Шаховская точно подметила, что «было у Штейгера острое ощущение жизни и аппетит к ней, как бывает у чахоточных, а также и сознание, с самой ранней юности, что смерть была не поэтической идеей, а реальностью, спутницей всех его странствований».
Остались три книжки стихов — четвертая вышла посмертно — и среди этих стихов несколько таких, где чувствуется порыв к простоте, к безыскусности, где преодолена меланхолия, ставшая для «монпарно» почти обязательной. Но все-таки Цветаева была права, страшась, что Монпарнас окажется смертельной добавкой к тому комплексу обездоленности, который был знаком Штейгеру еще с его юных лет:
В сущности, так немного Мы просили себе у Бога:
Любовь и заброшенный дом,
Луну над старым прудом,
И розовый куст у порога…
Немного? Но просишь года,
А в Сене бежит вода,
Зеленая, как и всегда.
И слышится с неба ответ Неясный… Ни да, ни нет.
* * *
Монпарно с самого начала играли главную роль в парижском Союзе молодых писателей и поэтов, который возник весной 1925 года. Нашлось скромное помещение на Данфер-Рошро 79, где устраивали вечера и дискуссии. Если отыскивался меценат, выпускали сборники — авторские или коллективные. Через пять лет стал выходить журнал «Числа», той же литературной ориентации, которая возобладала в союзе. «Числа» закрылись на десятом номере: кончились деньги. Союз дотянул до самой войны.
Писатели с громкими именами, поначалу бывавшие на встречах союза — Бунин, Тэффи, философ Лев Шестов, — вскоре от него отошли, поняв, что это не их территория. В «Числах» они время от времени печатались, но тоже не чувствуя себя своими. Направление журнала оставалось им явно несозвучным. Первый номер открылся заявлением от редакции, которое расставило точки над «i». «У бездомных, у лишенных веры отцов или поколебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной жизни, как она дается извне, — обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти. „Числам“ хотелось бы говорить главным образом об этом… Писать надо о жизни. Но жизнь, без своего загадочного и темного фона, лишилась бы своей глубины. Смерть вплетена в живое».
Посыпались упреки в том, что возвращается декаданс, причем неприкрытый. А когда редактор «Чисел» Николай Оцуп объявил, что в его издании не будет политики, вскинулась Гиппиус: как можно выпускать журнал, игнорируя самое важное и больное — страдание и грядущее воскресение России, судьбы эмиграции, кризис и новые пути мира? Зато молодые ликовали, веря, что настал конец тиранству «общественников», из-за которого литературе нечем дышать. А если так, можно оставить без ответа ворчанье стариков, которые не обнаружили на страницах «Чисел» ничего, лишь «проповедь самоотречения» и зачарованность авторов своими мелкими горестями.
Под обложкой «Чисел» нашли для себя приют самые заметные из русских монпарнасцев — Штейгер, Червинская, прозаик и художник Сергей Шаршун, Борис Поплавский, которого через много лет, работая над своим «Дневником в стихах», Оцуп назовет «царства монпарнасского царевич». Туг Варшавский поместил статью «О „герое“ эмигрантской молодой литературы», воспринятую как манифест. Он писал, что этот герой — «действительно как бы „голый“ человек… В социальном смысле он находится нигде и ни в каком времени, как бы выброшен из общего социального мира и предоставлен себе… Из глубины души такого человека… неизбежно должны подняться пустота, скука и отчаяние. Давящее чувство небытия, тоска по какой-то дали и слова Гамлета „пала связь времен“ — вот, вероятно, весь „состав“ сознания такого человека».
В «Числах» по-настоящему заявила о себе поэзия, которую, не найдя более точных определений, назвали «парижской нотой».
Слово было впервые произнесено Поплавским, однако за существование «парижской ноты» в ответе прежде всего Адамович. Под старость он и сам сознавал, что должен испытывать именно чувство ответственности, даже вины за «коллективное лирическое унынье», возобладавшее тогда у молодых русских поэтов, хотя вправду ли надлежало каяться? Ведь «в основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменяемом, неустранимом: нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим „все или ничего“ и с отказом удовлетвориться чем-то промежуточным».