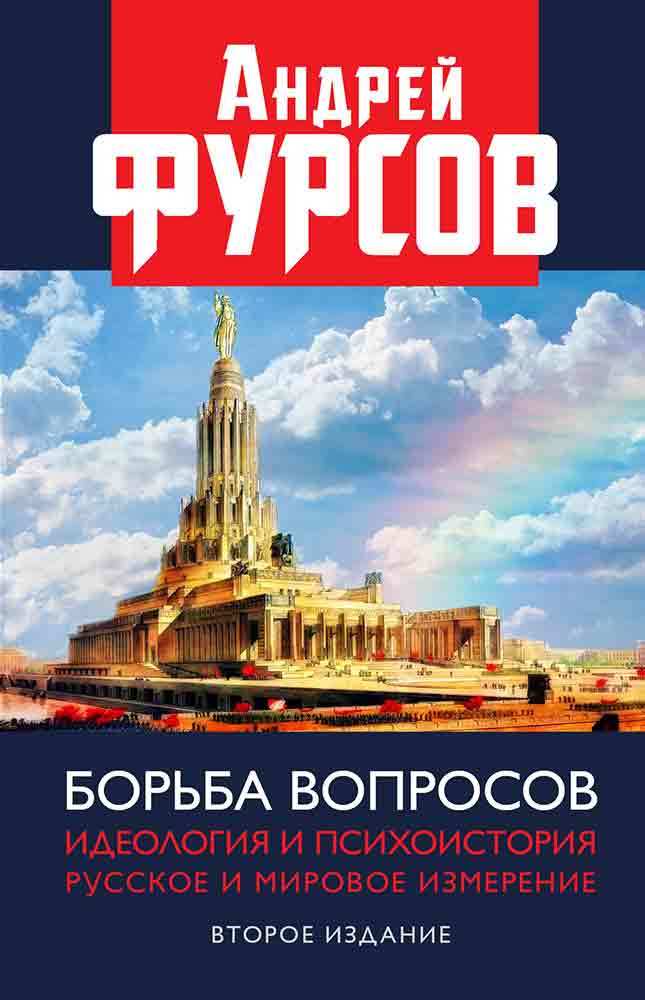Античности с ее политикой и философией, и «старого божьего промысла» – иудейских законов и Ветхого Завета.
Различение между античной древностью и христианской современностью стало важным элементом средневековой культуры. «Современное» в данной ситуации выступало как царство Божьей благодати и воли, а древнее – как царство закона и философии. Ни в одной из цивилизаций прошлое и настоящее (настоящее-будущее) не являются столь дихотомически противопоставленными, как в Европейской. Напряжение между элементами этой дихотомии, усиливающееся их противоречием как светского и религиозного, и породило в рамках христианской схемы мира понятие настоящего, в котором динамика благодати, как заметил Дж. Покок, в принципе может быть продолжена в будущее (что и было в определенных условиях реализовано в идее прогресса). Поскольку такое продолжение принципиально возможно, «современный» и «древний» элементы могут поменяться местами. Так и произошло в XV–XVI вв., когда было изобретено «Средневековье» как прошлое с целью дистанцировать от него настоящее в качестве светского, нерелигиозного. В этом смысле европейское Настоящее – это прежде всего Антипрошлое, т. е. среди его характеристик главная является негативно-функциональной, а потому в принципе и в него можно поместить будущее, а само его можно перенести в это будущее, слить с ним. Инструментальный, оперативный, функциональный характер настоящего в Европейской цивилизации (даже в Средневековье настоящее было функцией Будущего и Вечности) и хронотрадиции позволяет заявлять в качестве него практически любое состояние, измерение времени. Настоящим может стать будущее или типологически прошлое. Прошлым – настоящее. И так уже бывало.
Как писал все тот же Дж. Покок, мыслители Возрождения задолго до Гиббона связали «триумф варварства» с «религией» и начали считать себя «современными» в том смысле и по той же причине, что подражали древним или даже превосходили их. Гуманисты, таким образом, произвели инверсию: если для ранних христиан их эпоха была «современной» б силу ее особой религиозности по отношению к античной древности, то гуманисты возрождение светской античности и сам Ренессанс представили как возникновение современности, противостоящей варварскому прошлому и господству религии. В результате Средневековье приобрело вид мрачного «слаборазвитого» прошлого, и мы до сих пор, к сожалению, смотрим на этот динамичнейший отрезок истории заинтересованным в психоисторической фальсификации ренессансо-просвещенческим взглядом как на статичный. При этом забывается, что деятели Реформации могли использовать ту же дихотомию и определять «антикизированное» христианство (или христианизированную античность) как прошлое. Собственно, Мартин Лютер и отсек это прошлое своими тезисами как социальной бритвой Оккама, не предполагая, что ввергает христианского субъекта, Европу и мир в самое большое, жестокое и захватывающее социальное приключение – капитализм с его мировой, планетарной экспансией.
Прошлое в западной (христианской) традиции – это тот старый мир, от которого часто необходимо отречься, чтобы бежать в будущее – то ли к вынесенной за рамки Социума Вечности, то ли к внесенному в настоящее виртуальному будущему. Таково характерное для западного человека отношение к прошлому, ограничивающее возможности манипуляций со Временем, «игры» с ним и в него. Но и здесь у европейского субъекта есть контригра, есть ходы. И они тоже обусловлены логикой историей и содержанием западной цивилизации. Благодаря обладанию линейным трехмерным (прошлое – настоящее – будущее) временем, европеец любой трюк со временем, любой поворот может объявить торжеством современности как настоящего, и какой бы хроноисторический наперсток ни был поднят, Европейская система всегда может подложить шарик «современности», настоящего именно под него, объявив остальное архаикой, отсталой традицией. В основе этого хроноисторического наперсточниче-ства лежит тот факт, что линейное время не только носит сегментарно-футуристический характер, не только неоднородно, но и этически определенно и определенно, причем – неравномерно. Только на такой основе и могла возникнуть идея прогресса.
IV
В течение длительного времени – от блаженного Августина до XVII–XVIII вв. христианская идея совершенствования, поступательного развития нравственности и ума, духа и знаний не претерпевала качественных изменений. Более того, в XVI – первой половине XVIII в. Возрождение и Старый Порядок как кластеры нескольких альтернативных вариантов постфеодального развития, одним из которых и был капитализм, который во второй половине XVIII в. уничтожил или подмял все остальные, превратив их в свои функции, способствовали возрождению циклических идей, особенно в Италии (Макиавелли, Вико). Однако линия «вертикального совершенствования», которую с XVII в. всё чаще называют прогрессом, набирает силу. Решающей стала вторая половина XVIII в. Тюрго, Кондорсэ, Гиббон, Гердер, Кант и многие другие заговорили о совершенстве не только духовном, но и социальном; Кант вообще связывает одно с другим в единое целое.
Великая Французская революция перевела вопрос о неизбежности изменения, развития вообще и прогресса в частности в практическую сферу: революция совершалась именем прогресса и «объяснила» (я согласен с И. Валлерстайном) всем: социальные и политические изменения нормальны и неизбежны. Не случайно в 1811 г. появляется термодинамика, которая стала первой наукой о сложном, вводя понятие необратимых процессов, зависящих от направления времени («стрела времени»).
Необратимые общественные и политические процессы конца XVIII – начала XIX в., которые их сторонники именовали прогрессивными, прогрессом, стали политической и интеллектуальной проблемой, на которую нужно было реагировать. Действительно, как относиться к изменениям, именуемым прогрессивными?
Три великие идеологии Модерна – консерватизм, либерализм, марксизм – (и идеология как тримодальный феномен) возникли и оформились в XIX в. как три различных ответа-реакции на изменение, ставшее неизбежной реальностью благодаря Великой Французской революции. Таких ответов могло быть только три:
1. Отрицательный; негативное отношение к «прогрессивным изменениям» – консерватизм, т. е. стратегия на торможение-подморожение.
2. Положительный, акцентирующий эволюционный, постепенный характер изменений – либерализм.
3. Положительный, акцентирующий революционный, скачкообразный характер изменений – марксизм.
Таким образом, именно необратимые изменения, ставшие реальностью лишь в конце XVIII в. (Вольтер, например, о таком и не мыслил) лишили религию возможности играть роль средства идейной артикуляции социальных войн, как это было в XVI – первой половине XVIII в., и поставили на повестку дня необходимость создания принципиально иной идейной формы организации и артикуляции социальных интересов и политической борьбы – по поводу неизбежного, необратимого будущего здесь, а не за пределами земного мира, и средств достижения/обеспечения этого будущего.
V
Казалось бы внешне идея прогресса представляет собой всего лишь светскую, десакрализованную версию христианской «хронолинейки». Так, например, считал Макс Вебер и не только он. На самом деле ситуация сложнее. Идея прогресса произвела серьёзные изменения в христианской «хронолинейке», перестроила её.
Мы привыкли интерпретировать идею прогресса как футуристическую, как идею имеющую отношение к будущему и только к будущему. В значительной степени это психологическая ошибка или, по меньшей мере, историко-культурный самообман. По-настоящему, так сказать, качественно футуристическим всегда, устремленным только в будущее было христианство. Футуристическим было Средневековье, которое стремилось к Будущему и в Будущее-само-по-себе; в Будущем должно было произойти второе пришествие Христа, завершавшее Время, ломавшее христианскую «линейку» и отпиравшее Врата Вечности. Будущее – это то,