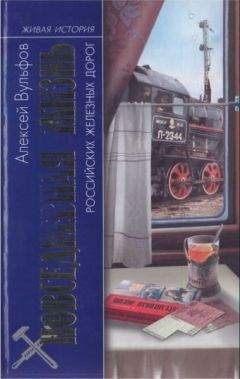— Только что не побил… — отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.
Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.
— Да вот, — говорит мой товарищ, — ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого только он да мой своих кочегаров вперед себя обедать пускают.
В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным, важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, умными, твердыми голубыми глазами!
Там дальше группа уже поевших. В центре большой, плотный, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками, веселый немец, что-то говорит, и все кругом хохочут.
— Это Альбранд из Вены, — всё врет, но так, что животики надорвешь, — говорит мой спутник.
Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:
— Я своего паровоза не дам!!! Расплююсь, уйду, а не дам!
Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.
Нам дали борщу с большим куском говядины: на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.
Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хотелось: ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень: если б они увидали меня теперь здесь! Моя мать, которая была в отчаянии по поводу моего обычного ничегонеяденья, всегда говорила:
— Твой желудок — дамочка и самая капризная из всех.
А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста!
Я заплатил за свой обед 20 копеек, и мой товарищ говорит мне:
— Григорьев… я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить, — ему всех новичков дают, потому что другие вот эти все такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет, он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.
— Так, может быть, и обед ему снести?
— Это тоже не худо бы было!
Нашлись и судки. Мы взяли с собою щей, жаркого, огурец, ворох хлеба, бутылку водки.
— Ну, уж валяйте ему и пива, — пусть старина повеселится. Вместе понесем.
— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ. — Мы к вам с поклоном и повинною.
— Ну, какие там еще… Ничего не надо! — и Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят, и они возятся и ворчат, — завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.
Мой товарищ, очевидно, успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева, и немного погодя, энергично хрустя зубами, тот уже уничтожал принесенное нами.
Он сидел на корточках, открывая как пасть свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:
— Всё это лишнее! — он тыкал на борщ, жаркое. — Ну, вот это, — он указал на водку, — пожалуй, что и полезное. Когда за двух приходится работать, — где же силы взять? — она вот и помогает…
Он брал бутылку и осторожно наливал водку в свою с отбитой ножкой рюмку.
— Вот это, — он показал на пиво, — тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат…
— Водка, конечно, тверже, — соглашался мой товарищ.
— Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.
Так говорил он, пока всё — полезное и бесполезное — было уничтожено. Завидев бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:
— Ну, теперь и терпеть можно…
И мы опять принялись за работу и работали до заката.
Тогда нам снова дали передышку на полчаса. Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернул его и достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.
— Водки хотите?
Я отказался. В бутылке ее оставалось уже немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:
— В нашем деле без водки не проживешь…
После этого мы молча ели каждый в своем углу:
Григорьев около рычага, а я около тормоза — отделение кочегара.
Глава 9
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И КУЛЬТУРА
Благодаря развитию железных дорог сложился такой социально-хозяйственный комплекс, как станция. То есть раздельный пункт, имеющий развитие путей, позволяющий не только принимать поезда для посадки-высадки пассажиров, пропуска встречного поезда или обгона, но и производить загрузку или разгрузку вагонов.
Не следует путать станцию с разъездом или платформой. Разъезд служит только для того, чтобы разъехаться — для встреч-пропусков поездов. На нем, как правило, никаких грузовых операций не производится. Платформа — это просто оборудованное место на пути или на станции, где выходят из вагонов или заходят в них пассажиры. Это может быть прекрасно обустроенный асфальтированный перрон для входа в электричку или дизель-поезд, а может быть и просто небольшое возвышение из старых шпал для входа в вагон на какой-нибудь глухой ветке посреди перегона. Никакого путевого развития платформа не требует.
В старину платформы даже на больших вокзалах делались из досок (асфальтированные перроны стали обыденностью только в 1960-х годах). На небольших станциях и разъездах они нередко были песчаными, как гласил дореволюционный справочник — «утрамбованными до плотности хорошей садовой дорожки». Ходить по такой платформе очень приятно — мягко.
Для размещения и отдыха пассажиров, а также для служебных нужд строился вокзал (пассажирское здание). Он мог быть каменным или деревянным. Вокзал — одно из самых гуманных изобретений человека. Это место для пристанища любого странника. В нем всегда есть крыша, место для отдыха, отопительная печь, а раньше непременно были титан с водой и кружка — порой на цепи. Раньше лавки в залах ожидания были только из дерева и с высокими спинками, торжественные и строгие, и отдыхать на них было куда удобнее и приятнее, чем на нынешних пластмассовых стульях-коротышках, в которых и откинуться-то невозможно. На деревянных вокзальных лавках была выгравирована надпись: «М.П.С.».
Вокзал всегда поделен на служебные и пассажирские помещения. Служебные помещения — комнаты начальника станции и его помощника, ламповая для хранения ламп, свечей и фонарей, кладовая, касса, аппаратная реле устройств сигнализации, помещение дежурного по станции. Пассажирские — зал ожидания, буфет, кассовый зал.
Вокзал — это всегда одна из архитектурных доминант данного населенного пункта. Это лицо города или поселка, первое впечатление о нем пассажира. Вокзал — место сосредоточения народной жизни во всех ее проявлениях — от путешествий до… искусства. Да-да: начиная с царскосельских времен, с оркестра Штрауса — бродячие музыканты, духовые оркестры, песни при проводах-расставаниях, патефон в буфете при царе и нэпе, «тарелка» репродуктора в советские времена, непременно картины в залах ожидания на крупных станциях… Вокзал — это всегда один из общественных центров жизни, так сказать, — столица народного бытия.
Вокзал к тому же и носитель духа, памяти — причем очень многих поколений. Старый вокзал — это как старый человек. Сколько встреч, расставаний, надежд, свиданий он помнит… Звенят в застывших камнях или досках токи незримой энергетики былых растраченных чувств.
Вдоль станционных путей помимо платформы и вокзала всегда располагаются сарай для хранения путейского инструмента, туалет, багажное отделение, а в старину — дровяной сарай для отопления вокзала, ледник для хранения буфетных продуктов, керосиновый погреб и водонапорная башня, которая со значением возвышается над станцией, словно колокольня над монастырем. Они и напоминают больше всего своим внешним видом колокольни. Еще важнейшей отличительной чертой станции царского времени являются деревянные ограждения и перила вдоль платформы и ряд осветительных фонарей на деревянных столбах. На некоторых станциях держали специальных ламповщиков, которые ведали зажиганием фонарей, лазали свечи менять или добавлять керосин, а когда появились газовые фонари, — и газом заправлять. Горючие вещества хранились в особом керосиновом погребе, напоминающем своим видом некое военно-полевое укрепление или землянку. Лампы зажигали длинными шестами с горящей свечой на конце. На вокзалах непременно разбивали палисадники и клумбы, которые называли «садиками».