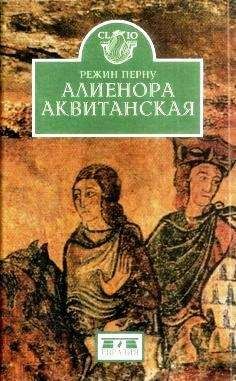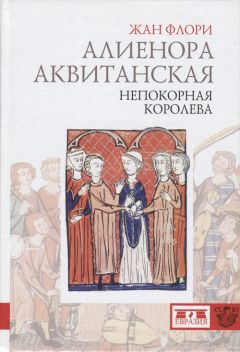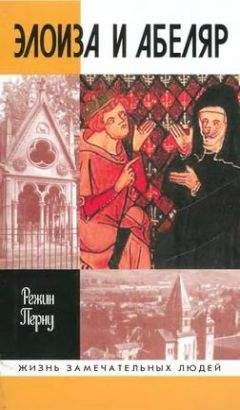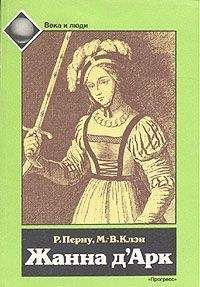Однако в управлении королевством образовался пробел: отныне голос мудрости и опыта не умерял безрассудного поведения молодой четы, для которой законом стали прихоти Алиеноры. Любой из поступков Людовика явно был вдохновлен ею; всякий его поход направлялся к ее владениям. Людовику удалось образумить Гильома де Лезе, который отказался при его восшествии на престол принести оммаж и который похитил кречетов — белых соколов, принадлежавших герцогам Аквитании, — из их охотничьих угодий в Тальмоне, где он был соправителем. Людовик предпринял отчаянную и неудачную попытку выступить в поход против Тулузы: Алиеноре хотелось отвоевать тулузские владения, которые она считала по праву принадлежащими ей через ее бабку, Филиппу, жену Гильома Трубадура (ту самую, которую он бросил и которая удалилась в монастырь Фонтевро). Когда он вернулся, Алиенора, в утешение и в награду за труды подарила мужу великолепную хрустальную чашу, укрепленную на золотой ножке и украшенную резным ободком с вправленными в него жемчугом и драгоценными камнями: эта чаша сейчас хранится в Лувре.
Король Франции явно не располагал достаточными силами для того, чтобы вынудить такого могущественного вассала, каким был граф Тулузский, расстаться со своим фьефом, на который тот не имел никакого права; поэтому Альфонсу-Иордану эта эпопея нисколько не повредила. Зато для Людовика неприятности только начинались, Вернувшись из похода, в котором она его сопровождала, Алиенора привезла с собой младшую сестру, которую источники именуют иногда Петрониллой, — или уменьшительным именем Перонелла. — иногда Аэлитой. Девушка вполне достигла брачного возраста — и на ком же она остановила взгляд? На одном из приближенных короля, Рауле де Вермандуа, советнике его отца и его собственном, которого Людовик недавно сделал своим сенешалем. Рауль был еще полон сил, хотя по возрасту вполне годился в отцы этой девочке, которой в то время, когда происходили описываемые события, то есть в 1141 г., было не больше семнадцати лет. Ему, несомненно, приятно было чувствовать себя обольстителем, несмотря на седину, и он как-то позабыл о том, что женат. И женат на родной племяннице могущественного Тибо де Блуа, графа Шампани. Любой человек, сколько-нибудь осведомленный в делах королевства, мог сообразить, что за это можно было сжечь целую провинцию. Собственно говоря, именно так и произошло.
Людовик VII, как всегда, оказавшийся не способным устоять перед напором жены, которая безоговорочно поддержала влюбленную сестру, сумел уговорить трех епископов из своего домена — Ланского, Санлисского и Нуайонского — признать, что первая жена Рауля, Алиенора, состояла с ним в такой степени родства, какую канонические законы считали недопустимой; а законы на этот счет в те времена были очень суровыми. Следовательно, брак можно было считать недействительным, епископы поспешили его расторгнуть, и Рауль, под одобригельным взглядом королевы, без промедления обвенчался с юной Перонеллой.
Тем самым он бросал вызов графу Шампанскому, и этого было более чем достаточно для того, чтобы вновь разгорелась давняя вражда между графами Шампани и сеньорами Вермандуа, искавшими против них союзников во Фландрии. Стремясь покончить с этими распрями, которые благодаря заключенным союзам охватили многие вассальные роды королевства, Людовик VI незадолго до своей смерти помирил враждующих. И вот теперь прихоть женщины вновь сталкивала их между собой. Тибо Шампанский, придя в ярость, отправился жаловаться папе римскому; в начале 1142 г. в Ланьи, на его землях, состоялся церковный собор, и папский легат Ив, кардинал церкви св. Лаврентия, отлучил от церкви как новобрачных, так и чересчур сговорчивых епископов, которые их обвенчали.
И это было не единственным проступком короля Франции в глазах церковных властей. Примерно тогда же Людовик VII запутался в неразрешимых проблемах из-за архиепископства Буржа. Разве не забрал он себе в голову, что сам выберет кандидата на это место, — в данном случае, собственного канцлера по имени Кадюрк, — и, когда законным образом избранный и облеченный властью папским престолом архиепископ, Петр де ла Шартр, явился вступать во владение своим городом, он не смог в него войти: Людовик приказал запереть городские ворота и двери собора. Такое решение могло иметь тяжелые последствия во времена, когда папство, уже больше столетия боровшееся за то, чтобы обеспечить себе свободу назначений на церковные должности и независимость духовной власти от мирских властей, казалось, достигло своей цели; причем, если на территории Священной Римской Империи ради этого папе пришлось вступить в конфликт с государем, то во Франции короли, как правило, оказывали ему поддержку. Так что подобное решение, исходящее от одного из Капетингов, не могло его не удивить. Но то же решение, исходившее от герцогини Аквитанской, вызывало удивление куда меньшее. В самом деле, дед Алиеноры не раз проявлял желание распределять епископства в своих владениях среди преданных ему прелатов, и ради этого не боялся бросить вызов папе; больше того, в свое время он принял сторону антипапы Анаклета против все того же Иннокентия II, все еще занимавшего престол Святого Петра. Поэтому в королевском окружении выходки Людовика не преминули — и не без оснований — приписать влиянию его жены.
В результате всего этого Людовик и навлек на себя папский гнев, его королевство подверглось интердикту, а сам он, поддерживая свою отлученную от церкви невестку, начал в Шампани войну, которая и завершилась чудовищным массовым истреблением в Витри. Несомненно, как для него самого, так и для его королевства настало время опомниться, найти выход из тупика.
И как раз после этих дней, проведенных в сумрачных размышлениях, когда молодой человек, должно быть, чувствовал себя на дне пропасти, он услышал решительный призыв, исходивший от человека, который был высочайшим духовным авторитетом того времени, человека, которого весь христианский мир почитал святым, человека, у которого просили совета папы и короли: Бернарда Клервоского.
Тридцать лет тому назад этот Бернард постучался у ворот монастыря Сито, откуда пошло реформистское движение, которому он придал мощный импульс: к моменту его смерти в одном только аббатстве Клерво будет насчитываться семьсот монахов, и у монастыря образуется сто шестьдесят филиалов; орден цистерцианцев рассеется по всему христианскому миру, от Англии до Португалии, от Италии до скандинавских стран. Этот мистик, стремившийся лишь к монастырской тишине и уединению суровой кельи, где он спал на голом полу, постоянно вынужден был вмешиваться в проблемы своего века, его постоянно призывали улаживать распри, прояснять сложные ситуации и укреплять веру везде, где это требовалось. Он уже не раз обращался к Людовику VII с увещеваниями, к которым тот оставался глух. Но на этот раз тон, каким обратился к нему Бернард, оказался весьма строгим и не оставлял места сомнениям в том, что за этим последует: «Видя, что вы не перестаете свирепствовать, я начинаю сожалеть о том, что прежде всегда приписывал ваши проступки неопытности, связанной с тем, что вы еще так молоды; теперь я решился, в меру своих слабых сил, сказать вам всю правду. Я заявляю во всеуслышание, что… вы множите убийства, разжигаете пожары, разрушаете церкви, что вы изгоняете бедняков из их жилищ, что вы уподобляетесь грабителю и разбойнику… Знайте же, что вам недолго оставаться безнаказанным… Я говорю с вами сурово, потому что боюсь, как бы вас не постигла еще более суровая кара».
На этот раз призыв, по-видимому, достиг своей цели и принес плоды. Предоставив своему брату Роберту заканчивать войну в Шампани, заняв Реймс и Шалон, Людовик вернулся во дворец Сите. И по его поведению окружавшие короля люди вскоре поняли, сколь глубокие изменения в нем произошли.
Я был словно оглушен
Любовью всю мою жизнь.
Но теперь я знаю.
Что это было безумием.
Бернарт де Вентадорн
Дорога от Парижа до Сен-Дени была забита сильнее, чем в дни ярмарки; паломники сбивались в кучки; то и дело тяжелым возам с сеном приходилось съезжать на обочину, пропуская какую-нибудь процессию прелатов или баронов, чьи кони в нетерпении переступали на месте, а два послушника, с головы до ног покрытые пылью, кое-как подгоняли вперед стадо овец. По мере приближения к Сен-Дени движение становилось все более оживленным, повозки, нагруженные мешками с мукой, винными бочками, горами овощей, — здесь было собрано все, что только можно было собрать с огородов Иль-де-Франса, и сейчас, в начале июня, овощи пришлось везти издалека, — теснились на подъезде к селению; королевским сержантам, явившимся на подмогу людям из аббатства, стоило немалого труда направлять в нужное русло этот поток людей и скота, и, насколько достигал взгляд, по обеим сторонам дороги раскинулись палатки, которым предстояло на те три дня, которые продлится церемония, стать кровом для оруженосцев, священников и всех тех незначительных людей, кому не хватило места в монастырской гостинице, отведенной для более высоких особ, и в деревенских домах.