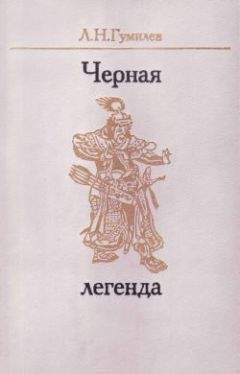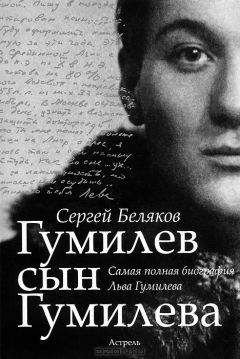Несколько по-иному сложились отношения тюрков с арабами на Ближнем Востоке. Мусульмане требовали смены веры; это в те времена означало, что Кок Тенгри (Голубое Небо) надо было называть Аллахом (Единственный). Тюрки охотно принимали такую замену, после чего занимали важные должности, если они были рабами-гулямами, или пастбища для овец, если они оставались свободными скотоводами. В последнем случае возникал симбиоз, с взаимной терпимостью и даже уважением, хотя культурные персы находили тюрков «грубыми».
Острые коллизии возникали лишь в крайних случаях, например, при подавлении восстаний зинджей и карматов, при войнах с дейлемитами и при дворцовых переворотах. Но и тут многие арабы и даже персы предпочитали тюрок сектантам и грабителям. А уж когда сельджуки загнали греков за Босфор, а куманы-мамлюки сбросили крестоносцев в Средиземное море, взаимопонимание восстановилось, и обновленный суперэтнос нашел в себе силы для самоутверждения.
Византия взаимодействовала с кочевниками двояко: первое – на своей родине греки пользовались помощью тюркютов в VII в., печенегов – в X в., половцев – в XI–XIII вв., и второе – на чужбине, где эмигрировавшие из Византии несториане обратили в христианство много монгольских и тюркских племен, часть оседлых уйгуров и часть хорезмийцев, а православные миссионеры крестили Болгарию, Сербию и Русь; возникал уже не сдержанный симбиоз, а инкорпорация: крещеных тюрок принимали как своих. Даже укрытые от монголов последние половцы, преданные венграми, нашли приют в Никейской империи.
Видимо, аналогичная положительная комплиментарность должна была иметь место в Древней Руси. Так оно и было, но этот вопрос подробно будет рассмотрен в специальной работе, ибо заслуживает особого внимания.
В отличие от восточных, западные христиане – католики относились к евразийским степнякам совсем иначе. Их обращение напоминает китайское, а не персидское, греческое и славянское. При этом важно, что политические конфликты между обоими суперэтносами были эпизодичны и куда менее значительны, чем войны гвельфов с гибеллинами. Просто существовало убеждение, что гунны, тюрки и монголы – грязные дикари, а если греки с ними дружат, то ведь восточные христиане «такие еретики, что самого Бога тошнит». А ведь с испанскими арабами и берберами в Сицилии европейские рыцари воевали постоянно, но относились к ним с полным уважением, хотя африканцы заслуживали его не более, чем азиаты. Оказывается, что сердце сильнее рассудка.
И, наконец, Тибет. В этой горной стране бытовали два мироощущения: древнеарийский культ Митры – бон и разные формы буддизма – кашмирская (тантризм), китайская (чан-буддизм созерцания) и индийские: хинаяна и махаяна. Все религии были прозелитическими и распространялись в оазисах бассейна Тарима и в Забайкалье. В Яркенде и Хотане утвердилась махаяна, быстро вытесненная исламом; в Куче, Карашаре и Турфане – хинаяна, мирно ужившаяся с несторианством, а в Забайкалье симпатии обрел бон – религия предков и потомков Чингиса. С христианством бон ладил, но китайские учения и монголы и тибетцы не принимали, даже чан-буддизм. Это не может быть случайным, так что с Тибетом у степняков комплиментарность была положительной.
Как видим, проявление комплиментарности не зависит от государственной целесообразности, экономической выгоды или от характера идеологической системы, потому что сложная догматика недоступна пониманию большинства неофитов. И все же феномен комплиментарности существует и играет в этнической истории если не решающую, то весьма значительную роль. Как же его объяснить? Сама напрашивается гипотеза биополей с различными ритмами, т. е. частотами колебаний. Одни совпадают и создают симфонию, другие – какофонию; это явно явление природы, а не дело рук человеческих.
Конечно, можно игнорировать этнические симпатии или антипатии, но целесообразно ли это? Ведь здесь кроется ключ к теории этнических контактов и конфликтов, а тем самым перспективы международных коллизий; и не только III–XII вв., которыми мы здесь ограничимся.
Тюрко-монголы дружили с Православным миром, Византией и ее спутниками – славянами. Ссорились с китайскими националистами и по мере сил помогали империи Тан или, что то же, – этносу табгачей, за исключением тех случаев, когда при императорском дворе в Чаньани брали верх китайские грамотеи.
С мусульманами тюрки уживались, хотя и образовывали химерные султанаты, больше среди иранцев, чем арабов. Зато агрессию католической романо-германской Европы тюрки остановили, за что до сих пор терпят нарекания.
На этих невидимых нитях выстраивалась международная обстановка вокруг берегов Каспийского моря перед выступлением монголов. Но и после монгольских походов констелляция изменилась лишь в деталях, отнюдь не принципиальных, что может проверить любой читатель, знакомый с элементарной всеобщей историей.
Неполноценных этносов нет!
Теперь, когда весь арсенал этнологической науки в наших руках и мы знаем о невидимых нитях симпатий и антипатий между суперэтносами, настало время поставить точки над i в вопросе о «неполноценности» степных народов и опровергнуть предвзятость европоцентризма, согласно которому весь мир – только варварская периферия Европы.
Сама идея «отсталости» или «дикости» может возникнуть только при использовании синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие на самом деле различные возрасты, сравниваются, как будто они сверстники. Но это столь же бессмысленно, как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все равно по какому признаку: то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки.
Но если принять принцип диахронии – счета по возрасту, и сравнить шестилетнего школьника со студентом и профессором, когда им было тоже по шесть лет, то сопоставление будет иметь не только смысл, но и научную перспективу. Так же обстоит дело в этнологии. Диахрония всегда заставляет помнить, что цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы, и гордятся накопленной веками культурой – как и все этносы в старости, но она же напомнит, что в своей молодости – они были дикими «франками» и «норманнами», научившимися богословию и мытью в бане у культурных в то время мавров.
Этнология не ставит вопросов, кто культурнее: хунны или древние греки, тюрки или немцы, ибо культурные и творческие сегодня, через триста лет вдруг оказываются равнодушными обывателями, а еще полторы тысячи лет назад и имени-то их никто не знал. Она беспристрастна, так как единственным ее мерилом является уровень пассионарного напряжения, проявляющийся в частоте событий, последовательность которых образует плавную мелодию чередования эпох и, наконец, заметную смену фаз этногенеза. Можно до бесконечности выяснять, что «лучше»: войлочная юрта, деревянная изба, мраморная вилла или каменный замок, и так и не прийти к выводу, ибо критерий такого сравнения отсутствует, но сопоставляя хуннов, эллинов и немцев, например, по их жертвенности и накалу страстей, легко убедиться, что в «юные лета» они одинаково горячо трепетали за свои идеалы, в зрелости – равно боролись за свободу, блистая умом и выдержкой, а в старости – одинаково остывали их чувства и ослабевали силы.
«Но как же можно сравнивать каких-то хуннов с культурными эллинами и цивилизованными немцами? – возмутится иной читатель. – Ведь хунны – это дикари, жестокие и грубые, а эллины – носители самых высоких идей, учителя всех позднейших философов, поэтов и художников?» К этой оценке мы привыкли настолько, что задумываться над ее правильностью стало казаться кощунством. А если все-таки подумать? Вспомним, как часто привычные мнения опровергались научным анализом, начиная с вопроса о форме Земли и кончая законом сохранения энергии.
Об извечной «дикости» хуннов и их сверстников степных народов мы уже достаточно сказали. Повторяться не будем. О цивилизованности немцев говорить особенно нечего. В эпоху Гогенштауфенов и «кулачного права» Германия была весьма не университетской страной. А какой она станет в эпоху обскурации, можно легко представить. Достаточно вспомнить 1939–1945 гг., чтобы необходимость в дополнительном анализе и споре отпала. Поэтому сравним Хунну, Германию и Элладу по возрастам, отсчитывая последние от их «рождения» как самостоятельных этнополитических систем, зафиксированного историей.
Хотя мы знаем, что этим датам предшествовал инкубационный период, относительно короткий, но его мы опустим, потому что хронология в нем всегда не точна. Зато моменты выхода на арену истории всегда ярки и выпуклы. Для Хунну это 209 г. до н.э., для Германского королевства – Верденский договор 841 г. – образование на территории Священной Римской империи германской нации Арелатского, Французского, Ломбардского, Аквитанского королевств, а для Эллады дата расплывчата[5] – VII–VI вв. до н.э. Это так называемая «Великая греческая колонизация» и образование государств с записанными законами. Чтобы дать уточнение, не необходимое, но желательное, изберем эталоном Афины. Тогда аналогичной датой начала становления будет 621 г. до н.э., т.е. Драконтовы законы. Спарта возникла несколько раньше, но этой неточностью молено пренебречь.