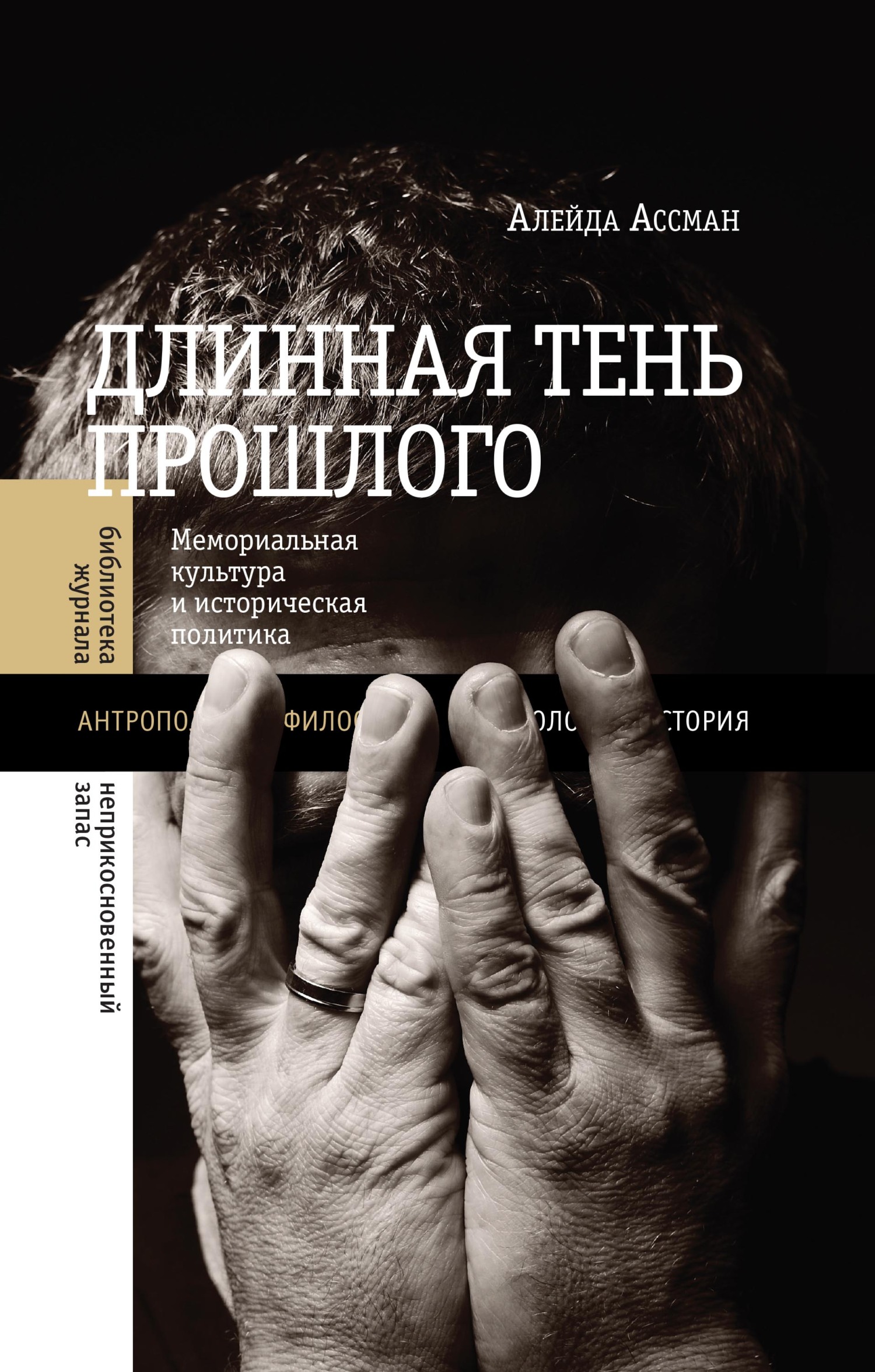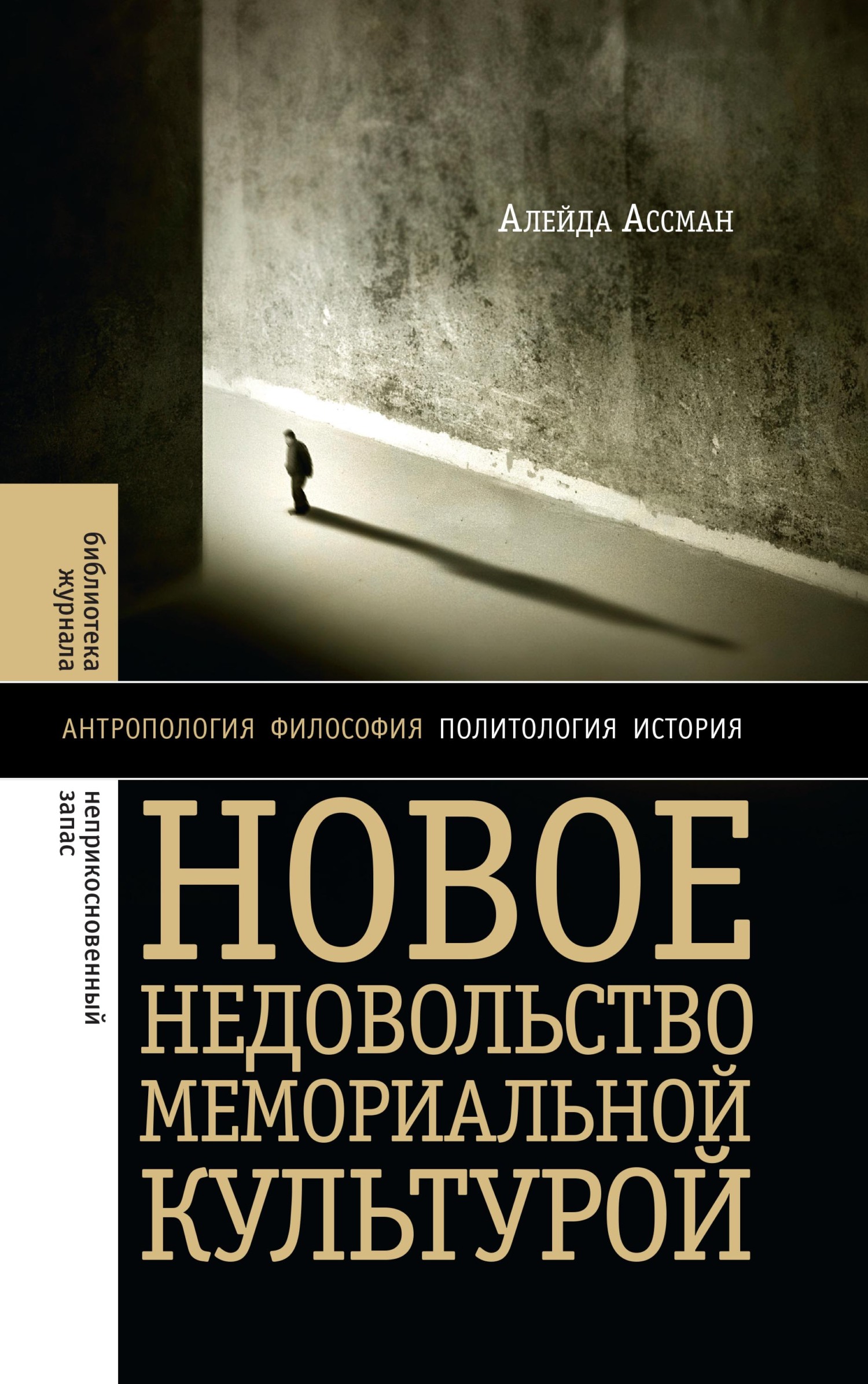материальные информационные носители. Таким образом, воспоминания сохраняются и за пределами отдельных поколений. Если социальная память оказывается вновь и вновь преходящей вместе с людьми, которые служат ее носителями, то культурные символы и знаки становятся долговременной опорой. Диапазон охвата социальной памяти связан с биологическими ритмами, поэтому биологически ограничен, а вот культурная память, базирующаяся на таких внешних медиторах, как тексты, изображения, монументы и ритуалы, не имеет временных границ; культурная память характеризуется широчайшим, потенциально многовековым временным горизонтом. Коллективная память отличается от семейной и поколенческой памяти наличием опоры в виде символов, которые закрепляют воспоминания для будущего тем, что обеспечивают императивную общность воспоминаний для следующих поколений. Монументы и памятники, годовщины и ритуалы из поколения в поколение упрочивают коммеморацию за счет материальных знаков и периодичности повторений. Они дают возможность последующим поколениям, не имеющим соответствующего собственного опыта, причаститься к общему воспоминанию.
С помощью указанных различий между органическим, социальным и культурным уровнями памяти можно устранить множество недоразумений относительно оправданности или неоправданности понятия «коллективная память». Разумеется, нельзя представлять себе коллективную память как простой аналог памяти индивидуальной. Здесь следует вполне поддержать критиков понятия «коллективная память», которые настойчиво подчеркивают исключительное значение личного опыта как основы памяти и протестуют против расширительного использования метафор. Институции и корпорации, а также культуры, нации, государства, церковь или фирма «не имеют» памяти, ибо она «конструируется» ими с помощью мемориальных знаков и символов. Благодаря этой памяти институции и корпорации одновременно «конструируют» собственную идентичность [22]. При таких условиях можно говорить о «памяти» в неметафорическом смысле, поскольку здесь пересекаются обращение к прошлому и конструирование идентичности.
С помощью дифференциации компонентов (носитель, среда, опора) и измерений (органическое, социальное, культурное) памяти можно лучше различать отдельные форматы памяти, к которым приобщается индивид благодаря одновременному вхождению во множество различных «Мы»-групп, о чем ниже будет говориться подробнее. При этом оказывается, что понятие коллективной памяти довольно расплывчато и не позволяет с достаточной определенностью отличить один формат памяти от другого. Ведь коллективная приобщенность характерна как для социальной памяти, которая, даже будучи памятью семьи или группы близких друзей, необходимым образом перерастает границы индивидуума, так и для культурной памяти, которая создает общность, объединяющую несколько поколений и эпох. В узком смысле «коллективным» можно назвать формат памяти, связанный с сильными императивами лояльности и крайне унифицирующей «Мы»-идентичностью. Это относится особенно к «национальной» памяти, которая является разновидностью «официальной» или «политической» памяти.
Форматы памяти
Ниже мы обратимся к формату политической памяти, а также некоторым аспектам ее возникновения и функционирования.
Как индивидуальная, так и коллективная память организована перспективно. В отличие от технических хранилищ знания или архива, память не стремится к максимальной полноте; она вбирает в себя далеко не все подряд, а всегда проводит более или менее жесткий отбор. Поэтому забвение является конститутивным элементом как индивидуальной, так и коллективной памяти. Ницше указывал на этот принципиально селективный и перспективный характер памяти, заимствуя из оптики понятие горизонта [23]. Под горизонтом понималась ограниченность кругозора, обусловленная определенной точкой наблюдения. Ницше использовал также понятие «пластической силы» памяти. Она трактовалась им как способность проводить четкую границу между воспоминанием и забвением, которая позволяет отделить важное от неважного, существенное от несущественного, необходимое для жизни от ненужного. Без этого фильтра, считал Ницше, индивидуумы и группы не способны формировать свою идентичность (он говорил в этой связи о «характере») и не могут выработать ясные ориентиры для собственных действий. Переполненность хранилища знаний оборачивается, по его мнению, размягчением памяти и, следственно, утратой идентичности.
Далее мы остановимся на специфике и проблемах политической памяти на примере национальной памяти. XIX век был столетием формирования наций и одновременно веком исторических исследований; оба этих проекта, как опасался Ницше, не слишком способствуют взаимному успеху. Он писал об эпохе историзма, когда архивы резко расширяют объемы исторического знания, что, по его мнению, чревато тяжким кризисом потери ориентиров. Его «несвоевременные размышления» должны были продемонстрировать, какую роль играет историография при формировании нации и какие формы может принять национальная память.
Эрнест Ренан как теоретик национальной памяти
Там, где история находится на службе у формирования идентичности, где история осваивается гражданами и где к ней апеллируют политики, там можно говорить о «политической» или «национальной» памяти. В противоположность многоголосой социальной памяти, которая является памятью «снизу» и которая вновь и вновь исчезает со сменой поколений, национальная память оказывается долговременной и гораздо более унифицированной конструкцией, которая закрепляется политическими институциями, воздействуя на общество «сверху».
Спустя десятилетие после того, как прозвучало высказывание Ницше, французский религиовед и писатель Эрнест Ренан прочитал в Сорбонне (1882 год) свой знаменитый доклад «Что такое нация?», где наглядно продемонстрировал важнейшее значение коллективной памяти для формирования нации [24]. Его анализ нации чрезвычайно интересен до сих пор, ибо он предвосхищает основные положения современной теории нации. В своем докладе, полемизируя с немецким романтическим дискурсом о нации, Ренан еще раз критически рассматривает весь набор традиционных признаков, определяющих нацию, чтобы решительно отвергнуть каждый из них и предложить взамен нечто новое. Раса (совместное происхождение, этническая принадлежность), язык, религия, географическое местоположение – все эти критерии отметаются Ренаном; ни один из них, по его мнению, не объясняет специфических основ нации. Именно неотчуждаемые характеристики, такие как общность крови, языка, ритуалов, обычаев и нравов, которые от Геродота до Гердера служили константными определителями национальной идентичности, не устраивают Ренана. Для него нация есть нечто совершенно иное, нежели раздутая до огромных масштабов семья. Вместо традиционных представлений он выдвигает современную, рожденную духом Французской революции концепцию демократической нации, основанной на демократическом волеизъявлении; консолидация нации не восходит к примордиальным истокам, а подлежит каждодневному плебисцитарному обновлению.
Но Ренан не был и безусловным сторонником «конституционного патриотизма»; по его мнению, одни лишь политические и финансовые интересы также не обладают достаточной консолидирующей силой, ибо для нации, подчеркивает он, существенна и эмоциональность. Чтобы подробнее остановиться на этой аффективной стороне нации, Ренан прибегает к излюбленной в XIX веке органической метафорике: нации необходимо не только «тело», но и «душа».
«Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. <…> Человек… не появляется сразу. Нация, как и индивидуумы, это результат продолжительных усилий, жертв и самоотречения. <…> Героическое прошлое, великие люди, слава <…> – вот главный капитал, на котором основывается национальная идея» [25].
Неожиданно для нас Ренан использует выражение «социальный капитал», которое, по привычному мнению, впервые появилось в работах