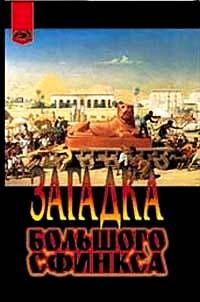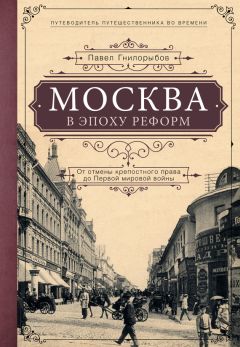1830–1850‐х гг. Скажем, в труде О. М. Бодянского «Характер великоруссов по песням» (1837) русский характер обнаруживает «глубокую унылость и покорность своей судьбе», умеренность, благоразумие, незаносчивость, здравый смысл, умение довольствоваться малым, верность властям предержащим, незлобие и др. 42
Подтверждение подобным мнениям историков и этнографов легко найти в десятках рассказов моего корпуса. Даже если крестьяне и крестьянки представали как жертвы – либо патриархального семейного уклада, либо рекрутчины, либо произвола помещика, – они сохраняли лучшие общечеловеческие и личностные качества, соответствующие широко распространенным в публичной сфере 1840–1850‐х гг. стереотипам о великорусском и малороссийском характерах. Таковы тексты Григоровича, Тургенева, В. И. Даля, Марко Вовчок, Потехина, Л. Толстого. Я намеренно ставлю в один ряд авторов с разными политическими взглядами, чтобы подчеркнуть, что с точки зрения распространенных тогда дефиниций этничности крестьяне западника Григоровича ничем не отличаются от крестьян русофила Потехина. Идеологическое наполнение образов у Тургенева («Постоялый двор», некоторые из рассказов «Записок охотника») и у Потехина, Толстого или Писемского манифестирует ту же религиозность и терпеливость. Отличие проявляется лишь на нарративном уровне – в модусе репрезентации, акцентирования авторской/нарраториальной перспективы, соотнесения разных сословий между собой в рамках одного текста.
Этот историко-литературный факт позволяет говорить о корпусе текстов о крестьянах в дореформенный период как о большой и единой парадигме, которую условно можно назвать апологетической, или парадигмой позитивной дискриминации (по аналогии с современным понятием affirmative action, «позитивное действие»). Она объединяла столь разных авторов в желании переоткрыть, возвысить, выставить в лучшем свете целое сословие, составлявшее до 80% населения Российской империи, и тем самым «искупить вину» перед ним 43.
На таком скорее гомогенном фоне гораздо больший интерес для исследователя представляют маргинальные и единичные тексты и трактовки, изображающие крестьян не как лучших Других, но, с одной стороны, как загадочных, таинственных незнакомцев, а на другом полюсе спектра – как полную противоположность позитивному образу, т. е. как дегуманизированных существ. Оба образа, как известно из истории русской литературы, имели колоссальный потенциал и сполна реализовались в пореформенную эпоху 1860–1890‐х гг., а затем и в модернизме, в прозе и драме – у Н. В. Успенского и Решетникова, в «Отцах и детях» Тургенева, «Анне Карениной» и «Власти тьмы» Толстого, в прозе Чехова, И. А. Бунина, Горького и Андрея Белого 44.
В силу ограниченного объема моя книга очень фрагментарно касается такой важной проблемы, как крестьянская тема в широком компаративном и даже глобальном контексте. Как было сказано, еще Ж. Донован показала, что за первые 30–40 лет XIX столетия в британской (М. Митфорд), французской (Жорж Санд), немецкой (Б. Ауэрбах), чешской, русской, американской (изображение рабства), а позже и других европейских литературах сложилось целое направление «местного колорита», одной из важнейших тематических ниш которого как раз и стали рассказы из жизни крестьян (и, шире, сельского простонародья). Симптоматично, что происходило это и в государствах, где к тому времени уже не было рабского труда (Великобритания, Франция, германские земли). Правомерно поэтому ставить вопрос о том, что именно в российской репрезентации крестьян является общим с глобальным трендом, а что уникальным. Логично, что исследователи обращаются в первую очередь к сопоставлению русского и американского материала, поскольку в обоих случаях рабство реально существовало 45. Даже предварительное сравнение с европейскими литературами приводит к выводу, что русская и украинская репрезентации крестьян отличались большей сфокусированностью именно на классе крестьян (а не мещан, рабочих или фермеров) и, соответственно, гораздо более высокой концентрацией сюжетов, связанных с насилием (семейным, помещичьим, государственным). Крестьяне в русской и украинской культурах сыграли, скорее всего, гораздо более важную, чем в западноевропейских странах, роль в процессах нациестроительства. При этом важно отметить, что украинская литература (и особенно народническая публицистика 1870–1880‐х гг.) до начала XX в. отличалась более устойчивым и доминирующим, чем российская, статусом апологетических, позитивных образов крестьян. Это объясняется тем, что украинский национальный проект был целиком и полностью построен на культе простого народа 46.
Для английской литературы, как показал Реймонд Уильямс, на протяжении многих столетий, вплоть до двадцатого, был характерен жанр и модус пасторали, с помощью которого осмыслялся контрастный городу топос деревни, однако классовый антагонизм никогда не играл такой роли, как в Российской империи. Более того, если верить Уильямсу, в британской романной прозе XIX в. (Диккенс и др.) городские «познаваемые сообщества» (knowable communities) изображаются как непроницаемые (opaque), а сельские, напротив, как полностью прозрачные для внешнего наблюдателя 47. Русская литература того же периода отличается, как я доказываю, обратной тенденцией.
В качестве гипотезы выскажу идею о большей популярности жанров идиллии и пасторали во французской (у Жорж Санд), швейцарской (у И. Готхельфа) и британской (у М. Митфорд) традициях, нежели в российской. Однако дальнейшее компаративное изучение жанра – дело будущего. Пока же я касаюсь некоторых сравнительных сюжетов в той мере, в какой они релевантны для раскрытия заявленной мной проблематики. Французский контекст, богато представленный творчеством Жорж Санд и ее «сельскими повестями», возникает в главах 1, 6 и 8. Немецкая философия, повлиявшая на концептуализацию крестьянской темы у П. В. Анненкова и Тургенева, обсуждается в главах 4 и 6. Сравнительный анализ социального воображаемого в украинских и русских простонародных рассказах Марко Вовчок (и отчасти Г. Ф. Квитки) проведен в главе 16.
Литература о крестьянах vs крестьянская литература
В книге «Пролетарские ночи» (1981) Жак Рансьер исследовал многочисленные тексты, написанные французскими рабочими в 1830–1850‐х гг.: это не только обширная переписка, дневники – издавались газеты и журналы, в которых публиковались трактаты, стихи и проза. Аналогичного по богатству материала в русской крестьянской среде до 1861 г. просто не существовало. Русская культура первой половины XIX в. знает лишь поэтов-самоучек из крестьян – Ф. Н. Слепушкина, Е. И. Алипанова и др.; у них всегда был образованный покровитель, позиционировавший их как «русских Бернсов» 48. Сохранились воспоминания нескольких образованных крестьян, которые выбились в люди и предали бумаге богатый опыт собственной жизни 49. Что же касается заметных прозаиков, то их можно пересчитать по пальцам. Федот Кузьмичев (1799–1868?), получивший вольную дворовый, стал плодовитым лубочным автором, однако о социальных низах не писал. Хронологически первым автором крестьянского происхождения, создавшим тексты о представителях своего сословия, был, очевидно, Михаил Петрович Погодин. Он родился в семье крепостного, получившего вольную в 1806 г., когда будущему историку и прозаику было 6 лет. В 1820–1830‐е гг. Погодин написал несколько знаковых рассказов, вошедших в мой корпус.
В середине 1830‐х гг. вышла нашумевшая повесть Николая Филипповича Павлова (1803–1864) «Именины» –