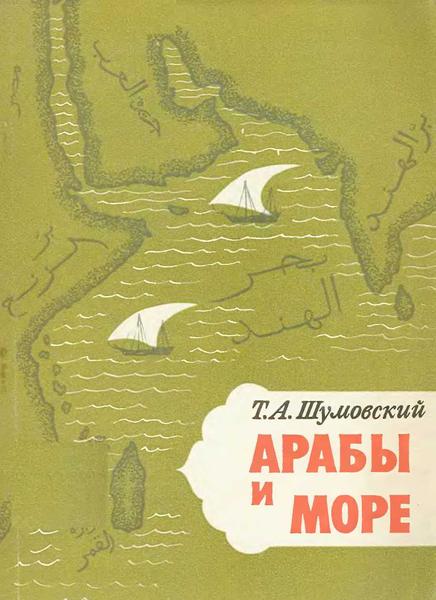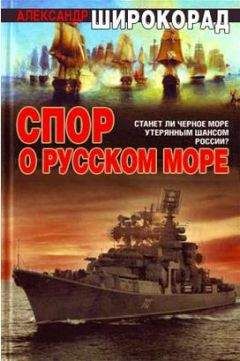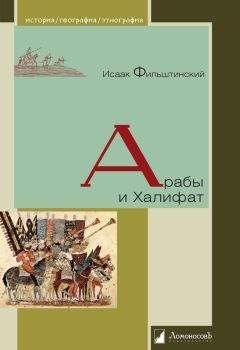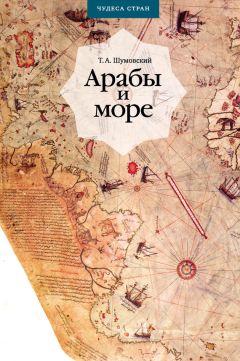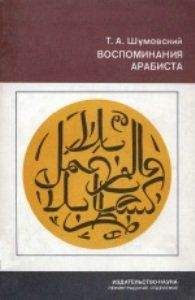я превзошел многое. Разбор, сделанный Крачковским, пристыдил меня: я увидел, что знакомство с фототипией, делавшееся урывками от университетских занятий и к обязательному сроку, дало мне весьма поверхностные знания, а гипотезы, которые я уже позволял себе строить, напоминали карточный домик: дунь — и развалится. С первого занятия я вышел со смешанным чувством радости от того, что сразу узнал столько интересных вещей, и досады на свои мизерные знания. На следующий раз мой наставник принес уже рукопись «дивана» — сборника стихотворений знаменитого поэта VII века ал-Ахталя, и я два часа как зачарованный слушал неторопливый рассказ о ее удивительной судьбе.
Рукописи сменялись рукописями. Из-за строк, представлявших многие типы письма: прямолинейный «куфический», и круглый «магрибинский», парадный «сулс» и будничный «насх», беглый «талик» и ломаный «рука», — оживленные задумчивым повествованием, вставали вереницы лиц и событий, мысли и деяния давно ушедших людей, сверкали грани арабского языка, о которых я и не подозревал, тончайшие оттенки одного из труднейших языков мира. Постепенно лекция все более переходила в беседу: впечатления переполняли меня, и я торопился высказать свои соображения об очередной рукописи. Игнатий Юлианович все больше и больше уступал мне слово, превращаясь во внимательного слушателя, и осторожно поправлял меня; не раз, увлекаясь, я «возлетал в заоблачные выси», и тогда несколько его спокойных замечаний сводили на нет мою пылкую тираду. Мало-помалу я начал осваиваться с техникой работы над рукописями; решающий опыт пришел позже, а главным приобретением этого незабываемого периода было чувство уважения к рукописному документу истории — необходимое условие для того, чтобы он, поддавшись длительным целеустремленным усилиям, мог заговорить живым языком свидетеля изучаемой эпохи.
В занятиях незаметно пробежали зима и весна. В мае 1937 года Игнатий Юлианович сказал:
— Ну вот, наши штудии, по-видимому, должны теперь закончиться: наступает экзаменационная сессия, и нам с вами будет не до рукописей. Я вам тут для, так сказать, испытания принес один образец, вы его посмотрите. Это рукопись с разными сочинениями, но вы все не трогайте, а выберите какое-нибудь одно и попробуйте на следующем занятии рассказать, что оно собой представляет.
Он ушел, а я принялся рассматривать рукопись. Это был томик небольшого формата в красном кожаном переплете с тиснением и застежками. То белые, то желтоватые страницы со слабым глянцем были исписаны разными почерками. Это навело на мысль, что здесь сшиты воедино несколько сочинений, и она подтвердилась, когда удалось определить их названия, Я насчитал семь трактатов. Часть сборника была написана по-турецки, и я исключил ее из поля зрения. Отрывки нравоучительного содержания в оставшемся тексте тоже не привлекли большого внимания. Взгляд задержался на 83-й странице, где после обычных славословий в честь Аллаха и Его пророка Мухаммада краткая прозаическая заметка описывала содержание следовавшей за нею поэмы. Меня всегда интересовали арабские географические названия, а здесь они были рассыпаны густо, и многие из них я встретил впервые; были тут и слова, смысла которых я не знал, по-видимому, думалось мне, специальные термины.
Я стал просматривать стихотворный текст и с первых же строк вступил в дремучий лес неизвестной мне топонимики и астрономической терминологии. Судя по контексту, это было описание мореходных маршрутов в западной части Индийского океана. Должно быть, здесь много интересного, но какой трудный текст! Какой трудный текст! На занятиях в университете я уже читал отрывки из арабских географических сочинений почти без подготовки,? livre ouvert [19], но здесь я спотыкался на каждом шагу и беспрестанно лез в словарь. Увы, подручный словарь Гиргаса, бывший в ходу не у одного поколения арабистов, на этот раз отказывал почти во всех случаях. Я полез в толстые словари не специального, как Гиргас, а общего типа, арабско-английские, арабско-французские, арабско-уже не помню какие, но нашел далеко не все слова. Оставалось обратиться к арабским толковым словарям. Эти многочисленные тома большого формата с мелким шрифтом лежали на нижней полке шкафа в помещении, где я работал. Начинающему юнцу к ним и подойти страшновато: удастся ли что-либо выловить в этом широко разлившемся в массивных фолиантах море языка? «Вот Игнатию Юлиановичу, вероятно бы, никакие словари не понадобились, — уныло думал я. — Уж он-то, наверное, все это знает…» Знает ли? Как-то я, смущаясь, спросил у него: «За какое время вы изучили арабский язык?» Член многих иностранных академий и научных обществ, избранный у нас академиком в неполные 39 лет, усмехнулся и, как мне показалось, несколько застенчиво сказал: «Я его, знаете, и сейчас изучаю. А чтобы постичь весь, думаю, жизни моей не хватит». Это был первый полученный мною урок научной скромности, качества, которое составляло один из секретов обаяния личности академика Крачковского. С другой стороны, пробелы в знаниях могут быть и у таких крупных ученых, просто даже потому, что в силу тех или иных причин какая-то группа текстов может выпасть у них из поля зрения, следовательно, соответствующая область языка изучена ими в меньшей степени, чем другие. Крачковский сознавал это, конечно, весьма отчетливо и в ряде областей арабистики охотно отдавал пальму первенства другим работникам науки, иногда и не имевшим высоких официальных званий.
При рассмотрении заинтересовавшей меня рукописи удалось различить, что мореходных поэм было не одна, а три: вторая переносила читателя в восточные воды Индийского океана, третья возвращала его к аравийским берегам. Имя автора, написанное небрежной скорописью, не имело различительных точек при буквах, но с помощью словарей я его разобрал: Ахмад ибн Маджид. Обратившись к международному справочному изданию — «Энциклопедии ислама», я, к своей радости, нашел там под этим именем статью, подписанную не известным мне до той поры Габриэлем Ферраном.
«Энциклопедия ислама» существует на английском, французском и немецком языках, а теперь еще и на турецком. В провинциальной школе 20-х годов изучать иностранные языки мне не приходилось, впервые я столкнулся с ними в университете. Длительные усилия дали свои результаты, но для научных занятии вузовских знаний было недостаточно, и мне пришлось думать об углублении знакомства с западными языками, главным образом с французским, ибо в нем я успел меньше, чем в других, к тому же на нем были написаны работы Феррана об арабском лоцмане, которых, как я увидел по библиографической справке к его статье, было довольно много.
Поздно ушел я в тот день из Института востоковедения, а назавтра меня вновь потянуло к рукописи лоций, и я, урвав время, прибежал в Арабский кабинет. Дни сменялись днями, незаметно промелькнула неделя, данная мне Игнатием Юлиановичем