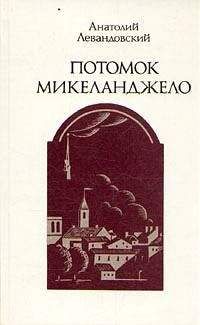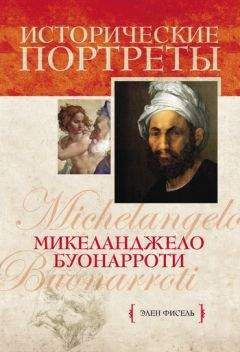А задуматься было над чем.
События общеевропейского масштаба разворачивались с невероятной быстротой. И куда же вели они, какой результат обещали?..
…С некоторых пор Филиппа одолевали двойственные чувства.
Конечно же он не мог не торжествовать, наблюдая, как рушится империя, оплот тирании, против которой он боролся столько лет. Он не мог не испытывать удовлетворения, видя, что дело и кровь братьев-филадельфов не пропали даром, что пророчество брата Леонида о корнях и ветвях сбывается, что не сегодня-завтра мученики и жертвы тирана будут отомщены.
Но, с другой стороны, его не могло не беспокоить, к а к происходил этот справедливый процесс, ч ь и руки брали за горло убийцу революции и республики, чем все это могло быть чревато в ближайшем и отдаленном будущем.
Его радовало, что народы Европы поднимаются, что вновь оживают революционные и национально-освободительные организации, что партизаны Испании, Италии, Пруссии, Польши выбивают остатки наполеоновских армий с территории своих отечеств.
Но его никак не могло радовать, что инициативу в борьбе подхватывали и захватывали монархи и их прихлебатели, что народно-освободительное движение небезуспешно пытались ввести в рамки верноподданничества, что революционный патриотизм неуклонно превращали в патриотизм казенный, официальный.
И больше всего волновало р а з р а с т а н и е этих модификаций, все ускоряющееся их расширение и углубление; чем быстрее приближался конец наполеоновского гнета, тем явственнее становилось, что плоды общенародной победы сорвут иные угнетатели, те самые короли и императоры, которые в прошлом не жалели сил для удушения Французской Республики.
А затем, когда все кончилось, Филиппу стало ясно, что в течение пятнадцати лет, вовсе не желая того, филадельфы, бабувисты, якобинцы и просто честные люди страны готовили почву для внутренней и международной реакции, еще более цепкой и злой, чем режим низвергнутого тирана.
И это было не просто горько.
Это было нестерпимо.
Первая Реставрация еще не принесла побежденным всех тягот, которые им было суждено узнать после 1815 года.
И союзники, и Бурбоны, руководимые ими, на первых порах старались подсластить пилюлю: нужно было показать, что новый «легитимный» режим много лучше тирании «узурпатора».
Хоть и с великой неохотой, Людовик XVIII согласился на «октроированную»[41] конституцию и объявил, что существующие учреждения, в том числе и перераспределение земли, произведенное за годы революции, остаются в силе Были сделаны немногочисленные либеральные жесты, в частности послабления в области печати.
Но этим дело и ограничилось.
Зато очень скоро стали появляться прямые попытки возврата к старым, дореволюционным порядкам. Получив милостью союзников трон, который ускользнул от них почти на четверть столетия, Людовик XVIII и его семейство постарались расположиться на нем со всеми удобствами.
— Бурбоны в изгнании ничего не забыли и ничему не научились, — со вздохом говорил князь Талейран.
Да, они не забыли и не желали забывать, что их предки были абсолютными монархами, королями «божьей милостью», владевшими телами и душами двадцати пяти миллионов подданных, и что именно этим подданным, «санкюлотам» и «цареубийцам», они были обязаны потерей короны и многолетними скитаниями по задворкам Европы. Но длительное изгнание ни в коей степени не научило их терпению, выдержке, уживчивости — теперь, оказавшись у власти, они хотели вернуть все разом и неразменной монетой.
Впрочем, и сами они были всего лишь пешками в руках тех, кто явился вместе с ними и служил им опорой.
Престарелый интриган Людовик XVIII и его весьма деятельный братец граф Артуа, «больший роялист, чем сам король», подарили «облагодетельствованной» Франции не только белое знамя контрреволюции, но и весь ее антураж — толпы вернувшихся жадных эмигрантов, дворян и епископов, стремившихся свести счеты с людьми 1793 года и скорее возвратить утерянное — родовые поместья и власть над «грязным мужичьем». Вместо обещанной отмены косвенных налогов правительство их сразу увеличило, не забыв при этом и о налогах прямых. Якобы в целях экономии резко сократили наличный состав армии и одновременно (с большими затратами) восстановили королевскую лейб-гвардию из дворян-эмигрантов и вандейских шуанов. Десятки тысяч наполеоновских солдат и офицеров, уволенных в отставку, быстро пополнили ряды недовольных.
Голод вновь навис над предместьями.
— А не лучше ли нам было при тиране? — спрашивали бедняки, не знавшие, чем кормить плачущих детей. — Тогда у нас был хлеб!..
— Что ни говори, а он был нашим, — вторили им уволенные с работы чиновники и выброшенные из армии офицеры. — Ведь недаром же враги окрестили его «исчадием революции»!..
— Наполеон всегда стремился к общей пользе, — поддакивали им добрые буржуа, забыв, как еще недавно радовались победам союзников.
Уже через несколько месяцев после установления нового режима в Париже стал складываться антиправительственный заговор. Душой его стал не поладивший с Бурбонами Фуше. В заговор были вовлечены Реаль, Тибодо, Даву, Мерлен, Реньо и многие другие деятели уничтоженной империи.
Хотя заговорщики и не достигли соглашения о конечной цели, но все они соглашались на одном:
— Дальше так жить нельзя.
А в казармах, в конторах и на улице люди шепотом сообщали друг другу:
— Он вернется.
За всем этим из своего далека внимательно следил Филипп Буонарроти. И конечно же коллизии эти не могли не наводить его на весьма тяжкие раздумья.
Не менее внимательно изучал ситуацию и другой человек, тот самый, который находился на Эльбе и был предметом всех этих вздохов и сожалений.
Была ли у него с самого начала мысль о попытке вернуть утраченное?
В этом не приходится сомневаться. Не таким человеком был Наполеон Бонапарт, чтобы смириться, пока кровь текла в его жилах и оставалась хоть тень надежды.
Ведь недаром за минуту до того, как подписать отречение, он с надеждой обратился к маршалам:
— А может быть, мы пойдем на них? Мы их разобьем!..
Коленкуру же, самому близкому к нему в то время собеседнику, он заметил:
— Посмотрим, что эти господа за год сделают со страной.
И вот еще не прошло данного им срока, а страна взвыла. И вспомнила о нем. И он знал это.
Знал он и другое.
Там, на конгрессе в Вене, деля между собой его империю, союзники переговаривались и о том, чтобы спровадить его куда-нибудь подальше, к черту на кулички, а то ведь Эльба слишком близка от Франции, и мало ли что…
Ага! И вам, господа, пришла на ум та же мысль!
Так надо реализовать ее, пока вы не реализовали своих подлых планов! Вы уже нарушили соглашение в Фонтенебло, вы навечно разлучили меня с женой и сыном, а теперь вы убьете меня или забросите за тридевять земель, так же далеко, как я некогда забрасывал якобинцев, и откуда нет возврата! Но пока я еще жив, я на Эльбе, — и нужно спешить…
К нему, на Эльбу, приезжали разные люди и приносили разные вести, дурные и хорошие, но все постепенно выстраивалось в одну цепочку. В начале 1815 года прибыл завсегдатай салона герцогини Бассано, где собирались заговорщики, бывший чиновник Государственного совета Флери де Шамбулон. Ярый бонапартист, он сделал «от имени патриотов» обстоятельный доклад императору о положении дел. Он рассказал об экономических трудностях в стране, о все возрастающей ненависти к Бурбонам, о преданности армии прежним идеям, об ожиданиях и надеждах добрых граждан.
— На поддержку какой части населения мы можем твердо рассчитывать? — в раздумье спросил Наполеон.
— Могу вам ответить, ваше величество, с достаточной точностью — мы уже прикидывали. Когда Людовик XVIII воцарился в стране, одна десятая часть французов встретила его восторженно, три десятых примкнули к новому режиму из благоразумия, остальные проявили полное равнодушие.
— Это уже нечто. А сейчас?
— Сейчас процентное соотношение примерно то же, но радикально изменилась направленность. Приверженцы Бурбонов превратились в предмет ненависти для большинства, благоразумные отшатнулись от «легитимизма», а равнодушные вновь стали вашими сторонниками.
— Прекрасно. И все же хотелось бы знать, насколько точны ваши расчеты?
— Сир, если бы вы только пожелали, вы бы убедились в их точности.
Оставалось пожелать.
Мог ли он не пожелать?..
Беседа с Флери состоялась в середине февраля.
А через несколько дней он принял окончательное решение.
26 февраля 1815 года начался заключительный акт эпохальной трагикомедии.
Три небольших корабля тайно отчалили из Порто-Ферайо и взяли курс на Южную Францию.
Его не покидало ощущение, что все это уже было, и было совсем недавно: такое же поспешное бегство, та же игра в прятки с английскими кораблями, круглосуточно охранявшими Средиземное море, то же острое чувство тревоги за будущее, те же надежды и сомнения и прежде всего непрерывно сверлящая мысль: а удастся ли?..