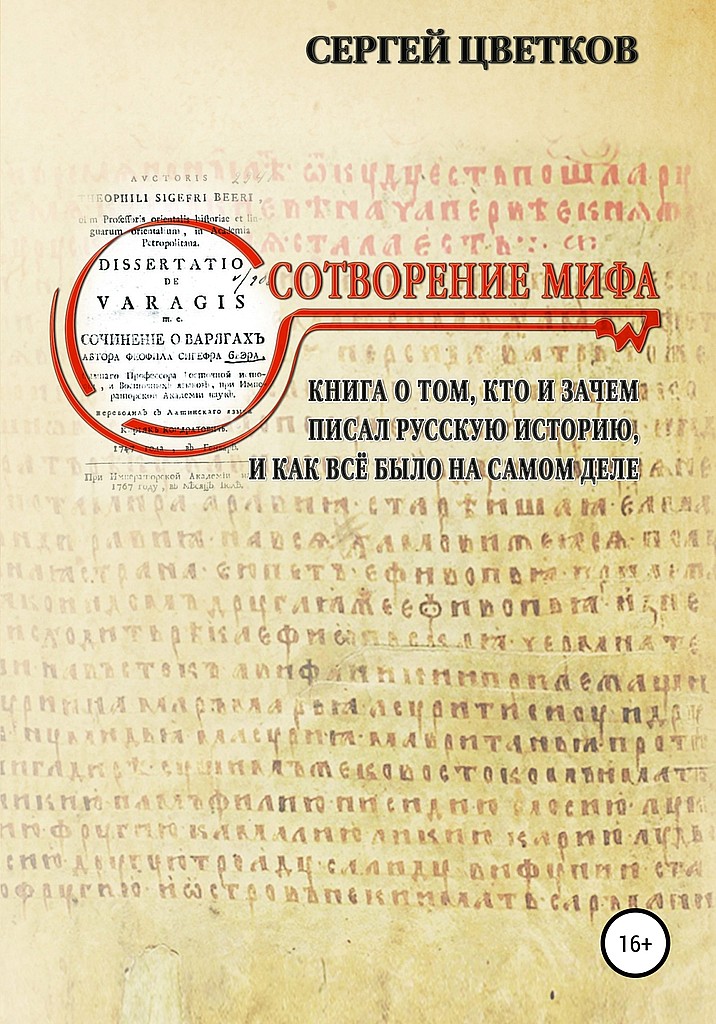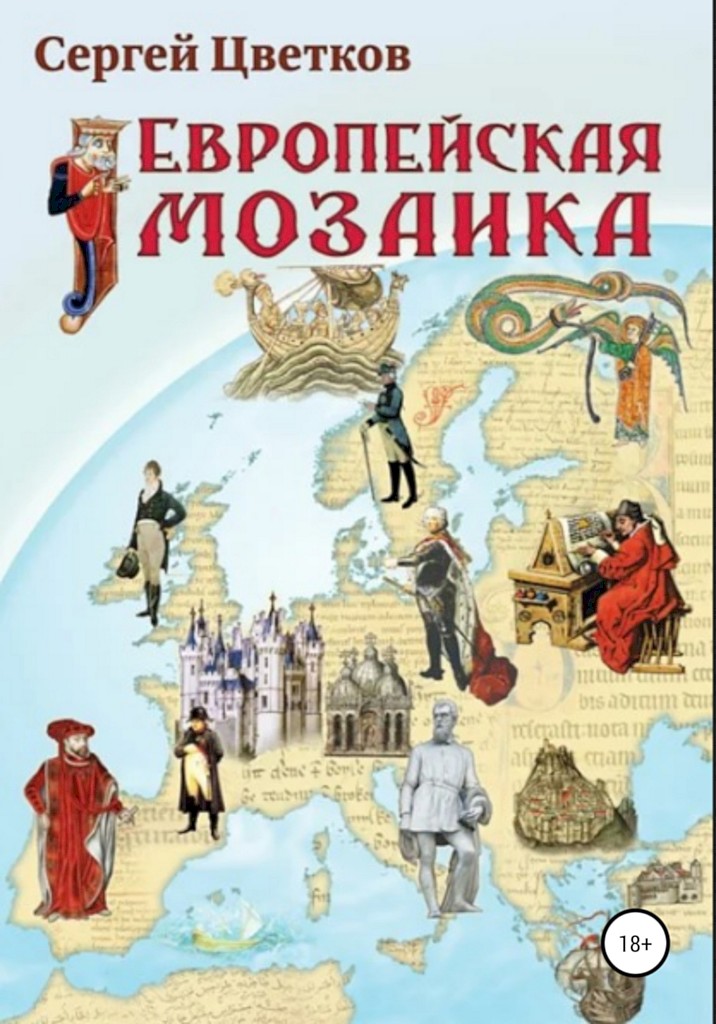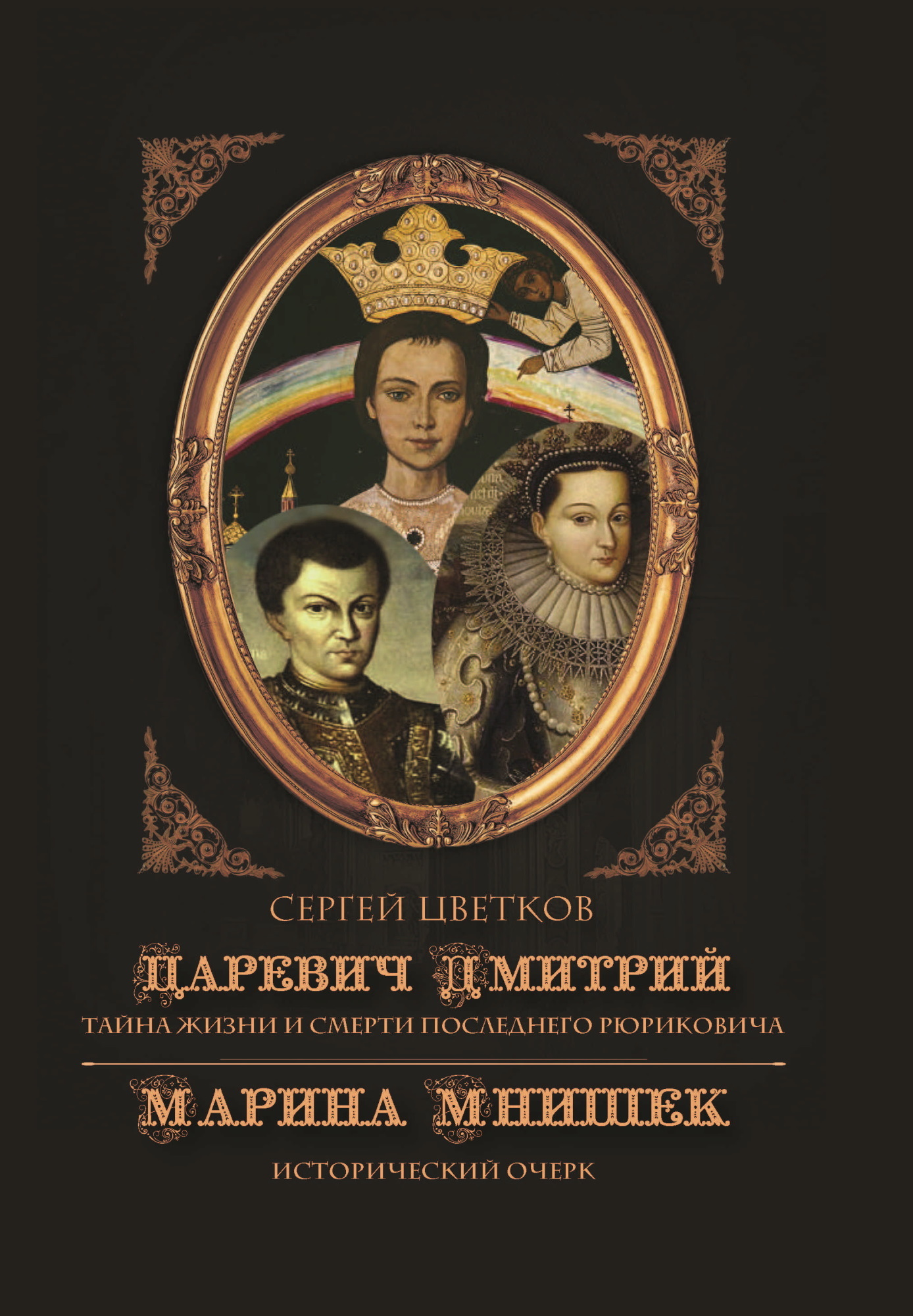Миллер уже в 1760 году, — были роксоланы из Пруссии (совершенно отличные от древних пруссов, хотя и обитавшие некогда в Пруссии)». Это мнение он перенесёт без изменений и в трактат «О народах, издревле в России обитавших» (1772).
В 1773 году, тоже уже после смерти автора, увидит свет исторический трактат Василия Кирилловича Тредиаковского «Три рассуждения о трёх главнейших древностях российских, а именно: I. О первенстве словенского языка пред тевтоническим. II. О первоначалии россов. III. О варягах руссах славянского звания, рода и языка» (1757).
Тредиаковский работал над ним в ту пору, когда, по его собственным словам, «ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, осуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами», он пришёл в совершенное отчаяние и бросил ходить в Академию. Спасения он искал в уединённых занятиях русской историей. Теперь Тредиаковский доказывал совсем обратное тому, о чём писал прежде, когда в 1749 году защищал Миллера. Он заселил славянами-россами всю Европу, проследив их древность до самых библейских времён. Главные свои доказательства он взял из филологии, отыскав славянские корни в названиях всех древних народов и стран, — если, конечно, можно назвать филологией произведение имени скифов от «скитаться», сарматов — от «замарать», кельтов — от «жёлтый» (светло-русые), варягов — от «ворять» («предварять», они — «предворители», то есть туземцы, коренные насельники русских земель), Испании — от Выспании (польск. Wyspa — «остров»), Каледонии — от «хлада» («Хладония»), Британия — от «бороды» (Бородания) или «братства» (Братания) и т. д. Впрочем, его филологические догадки выглядят не многим хуже рудбекианизмов Байера, который Москву производил от Москова, то есть мужского монастыря, а Псков — от псов: город псовый.
За эти вольные филологические упражнения Тредиаковский был «сатирически прободаем» не только норманнистами, но и Ломоносовым, который до конца дней продолжал ставить его на одну доску с Миллером в умении писать псевдоучёную «пустошь», часто «досадительную и для России предосудительную».
И однако же именно в исполненном историко-филологических нелепостей трактате Тредиаковского летописная русь впервые сближена с ружанами — славянскими обитателями острова Рюген. Тот самый случай, когда к истине не прислушались, потому что её провозгласили уста «младенца» исторической науки.
После смерти Ломоносова занятия русской историей становятся делом патриотически настроенных любителей из разных сословий и состояний. «Варяжский вопрос» теряет прежнюю остроту. Снова ломать копья ни к чему, да и не с кем. Иноземный научный идол, казалось, рухнул вместе с Миллером. От прошлых учёных баталий у русских историков второй половины XVIII века осталось только смутное чувство, что «варяжский вопрос» излишне загромождён немецкой учёностью и что новый его разбор превосходит их силы. Если они и дерзали на новую «Историю Российскую с древнейших времён», как, например, князь Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790), то излагали древний период отстранённо, просто перечисляя для сведения читателей существующие на сей счёт мнения. Пятьдесят тысяч томов, собранные в библиотеке князя Щербатова, оказались бессильны пролить свет на эти тёмные века. Свой трактат о российских древностях он заключил следующими словами: «В сем состоит всё то, что я мог собрать касающееся до сих древних народов, населяющих сии пространные северные страны, знаемые под именами Сарматии и Скифии европейских. Но всё столь смутно и беспорядочно, что из сего никакого следствия истории сочинить невозможно». Поэтому в вопросе о призвании Рюрика князь Щербатов примкнул к мнению Ломоносова, хотя с оговоркой, что прусский Рюрик был, вероятнее, всё же из немцев, нежели из славян.
Иван Никитич Болтин (1735–1792) вообще смеялся над одержимостью историков темой происхождения варягов-руси, — ведь в нашем народе, по его словам, едва ли сохранилась хоть капля славянской крови. Главное, что уже во времена Олега и Игоря русские имели прочные основы цивилизации и культуры — организованные сословия, правосудие («закон русский»), международную торговлю, регламентируемую договорами с империей ромеев.
Чтобы не терять время в «тщетных разысканиях» славянских корней среди этнографического столпотворения древней Европы, Болтин поступил в духе национально-государственной политики своего времени, мало заботящейся о реальных этнических границах: разделил все варварские племена, обитавшие на землях южной России, на три группы: скифов (татар), гуннов (калмыков) и сарматов (финнов и славян), а прочие неведомые народы распределил между ними, — литву, ятвягов и варягов поверстал в сарматы, киргизов сопричёл к скифам, хазар произвёл в славян. В некоторое раздумье его погрузили русы, но и они были быстро откомандированы к кимврам-киммерийцам, читай, тем же сарматам, которые впоследствии, смешавшись со славянами, утратили этническое своеобразие. Кому не лень, пускай проверит и опровергнет.
Пожалуй, наибольший интерес к «варяжскому вопросу» проявил тогда первый дилетант империи — Екатерина II.
В 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова» начинают печататься «Записки касательно российской истории». Имя автора в журнале не обозначено, но сведущим людям известно, что российскими древностями занимается не кто иной, как государыня. Она и сама охотно сообщает о своём увлечении, правда только своим заграничным корреспондентам. Сочинение это предназначено для подрастающих внуков Екатерины II — Александра и Константина Павловичей. В 1787 году «Записки» выходят отдельным изданием (в 6 частях).
Императрица ко всякому делу подходила основательно. Она тщательно изучила летописи (в её библиотеке было около 150 летописных списков), составила их свод, постаралась отыскать в исторических событиях нравственный смысл, в котором тогдашние западноевропейские историки и философы отказывали России.
Свои взгляды на древнюю русскую историю Екатерина пожелала представить широкой публике и в драматургическом виде.
В 1786 году в книжные лавки Петербурга поступает анонимная драма «Подражания Шакеспиру. Историческое представление без сохранения феатральных обыкновенных правил из жизни Рюрика». Целых пять лет русские читатели не желают призывать «Рюрика» в свои библиотеки. Наконец императрица робко жалуется известному собирателю древностей графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину на невнимание публики и критики к своему творению, чем приводит собеседника в крайнее смущение, ибо он даже не предполагал о существовании многострадальной драмы.
Неловкость заглажена переизданием «Рюрика» в сопровождении учёных комментариев Болтина («Соображал я читаемое мною с летописями и сочинениями, мне известными, и нашёл, что основа сего сочинения не из выдумок или сплетений баснословных составлена, но из бытии истинных и верных, что лица, на сцену выводимые, не суть подставные, но особы действительно некогда существовавшие и по истории нашей известные» и т. д.).
Замечательно, что Екатерина в этой пьесе, как и в своих исторических «Записках», явила себя поклонницей не