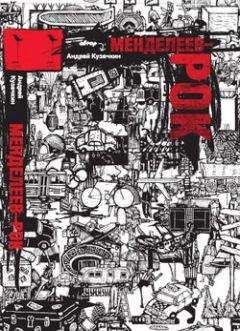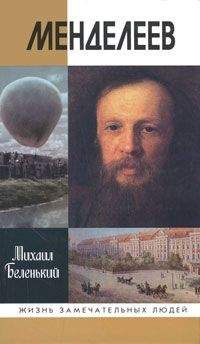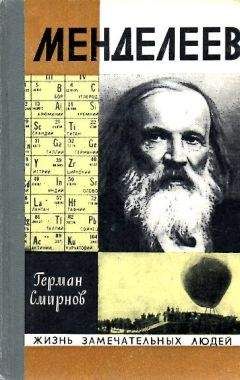Великое изобретение, начавшее новые века, - книгопечатание - вооружило зло несравненно более, чем добро. Дурных людей гораздо больше, чем хороших; при одинаковых средствах проповеди первые, естественно, берут верх. Уже при самом появлении книгопечатания опасность пропаганды зла чувствовалась и заставила создать особое учреждение - цензуру. Принято проклинать цензуру, и в самом деле, нельзя помянуть ее добром. Однако в своем замысле она была вовсе не тем, что ей приписывает наше невежество. Цензура была призвана не гасить свет человеческой мысли, а отстаивать его от наплывающей бессмыслицы. В старину понимали, что печатание доступно не только героям, но и негодяям, и так как гении и герои количественно исчезают в неизмеримо огромной толпе непросвещенной черни, то бесцензурная печать должна неминуемо повести к страшной вульгаризации публичного слова, к торжеству зла. Цензура в своем замысле напоминала культ Весты, бережение неугасаемого огня, безупречной чистоты духа. Если плохая цензура не выполнила своей роли, то это еще не решает вопроса о хорошей цензуре. Даже при всей слабости своей это учреждение на Западе и у нас приносило известную пользу. Правда, цензура очень часто приносила и серьезный вред, но вред все помнят, а польза давно забыта. Между тем на небольшое число великих мыслей, что цензура по своей ошибке пыталась задержать, - какое множество задерживалось ею мыслей пошлых и вздорных, отравленных злобой, зараженных вредным безумием! Задержать бедственное наводнение умов этой грязью была великая услуга, и если бы цензура продолжала бы ее оказывать, то цензуру следовало бы сохранить. К сожалению, великие в своем замысле учреждения чаще всего извращаются до обратных целей. Вследствие упадка регулирующего начала власти, цензура кончила тем, что наложила оковы на мысль героическую и гениальную и совершенно разнуздала подлую и бездарную умственную производительность черни.
Многие - кончая Л.Н. Толстым - указывали на опасность книгопечатания, но на нашей памяти явилось новое великое изобретение, совершенно затмившее собою скромное дело Гутенберга. Явилось скоропечатание, которое возвысило все неблагоприятные последствия свободного слова в куб. Книгопечатание по своей громоздкости и дороговизне все еще удерживало письменность на благородной высоте. В старые времена нужно было написать нечто, стоящее внимания лучших людей, чтобы книга окупилась. Скоропечатание же, вместе с фабрикацией крайне плохой и потому дешевой бумаги, сделало публичное слово доступным всем, но тут вот и выступило роковое свойство масс. "Все" оказались в подавляющем большинстве ниже культуры, ниже выработанного культурой ума, ниже выработанной религией совести, ниже вкуса, выработанного аристократией вообще. С распространением грамотности тотчас создалась спертая умственная атмосфера. Если в древности имели право жизни лишь лучшие книги, называвшиеся священными, то теперь их тесный круг задавлен и засыпан, как Геркуланум и Помпея, неисчислимым множеством листов ежедневно извергаемой серой, смрадной и часто жгучей некультурной печати.
Россия поставлена в этом смысле в наиболее опасное положение. В западных странах, где евреев сравнительно очень мало, печать еще не слишком развращена. Худшие люди, "чернь", и там вытесняют таланты и умы, но чернь на Западе все же несет на себе остатки древнего национального духа, то есть именно той культуры, которую выражали священные книги. Там есть сдержка, есть некоторая дисциплина, примиримая со свободой. У нас не то. У нас не только "значительная часть", как говорят киевские пастыри, но подавляющее большинство печати в руках опасного племени. Потерявшая национальное чутье бюрократия наша выронила из слабых рук своих ключ к власти - проповедь моральных идей, и этим ключом живо воспользовались враждебные и чуждые нам элементы. Соединившись с отбросами русского общества, евреи создали ту самую преступную прессу, в которой киевское духовенство видит корень смуты. И действительно, в ней - если не корень развившейся до сумасшествия озлобленности, то - орошение этого корня.
Низкие инстинкты свойственны людям; они всегда были и будут. Секрет цивилизации лишь в том, чтобы держать эти инстинкты постоянно связанными, бесплодными, как зерно, посаженное в сухую почву. Преступная печать еврейская, все эти мелкие, грошовые, рассчитанные на чернь бесчисленные листки не столько сеют зло, сколько орошают его. Ежедневно, как заботливый садовник, еврейские типографские станки поливают невежественные умы настроением отравленным, возбуждающим умственные судороги, мучительные в тесных лбах. Наша высокопоставленная власть не видит народа. Она не заботится о его питании. Она не знает, какою гадостью кормят народ в закусочных, какою мерзостью пичкают воображение народное через маленькие газетки в бесчисленных пивных, портерных, подвалах, чайных, ночлежных домах. Пролетариат городской и деревенский нынче почти сплошь грамотен; к уровню именно низких понятий и жестоких страстей подделывается революционный юдаизм. Идет сплошное обучение многомиллионной пролетарской массы, сплошное воспитание ее в анархических настроениях. Вот серьезная государственная беда, и в самом деле голос киевских пастырей поднимается вовремя. Поверьте, что если другие священники и другие благонамеренные граждане молчат, то не потому, что они не чувствуют пропасти, к которой мы идем.
"Но как же быть? - воскликнет растерянная наша государственность. Неужели отнимать свободу слова, только что данную? Ведь свобода слова устой конституции. Неужели отнимать конституцию?"
На эти растерянные речи хочется сказать: Да полно же. Будемте же наконец понимать то, что мы говорим. "Свобода слова" - да! Вы прекрасно делаете, желая сохранить ее, но где же она, эта "свобода"? Она на бумаге, она в благих намерениях Основных законов. На деле нет этой свободы. На деле установилась еврейская тирания слова, самая постыдная, какая была когда-нибудь у нас. Установился местами гнуснейший террор печати. Попробуйте, если вы не согласны с полдюжиной еврейчиков, заявить свое убеждение. Сейчас же на вас набрасывается в их газетах собачья стая и подвергает травле, буквально травле. Ведь множество верных родине русских людей уже погибли жертвой этой травли. Преследуют не одних обывателей, осмелившихся сказать еврею наперекор. Преследуют представителей государственной власти, сживают их со свету. У меня лежит материал о преследовании левой печатью одного весьма выдающегося вице-губернатора, который еще жив, но напечатанный в газетке приговор над ним вот-вот исполнится. Если бы государственная власть порасспросила несчастных губернаторов, генерал-губернаторов и многих "правых" деятелей о их жизни в глуши, она поняла бы, что это за каторга - дышать в этой ежедневно стравливаемой атмосфере злости, низости, подстрекательства, подметных статей, неуловимых для преследования, и подметных писем. Бомбу в конце концов взрывает не динамит, а именно эта накопляемая тщательно удушливая месть бунтарской печати, ее преступное влияние на чернь. Неужели, скажите по совести, это - "свобода" мысли, конституционная свобода печати? Напротив, именно свобода слова у нас растоптана на первых же порах, и долг власти восстановить ее, обеспечив от преступлений слева. Безумие думать, что гражданская "свобода" состоит в свободе зла. О каких бы свободах ни шла речь, во всех случаях подразумевается свобода добра. Правительство не может не возбуждая бунта разрешить одинаково добро и зло: только первому должен быть дан простор, со вторым же оно должно вести непрерывную и беспощадную борьбу. Это функция власти. Не выполняя ее, она не власть.
То, что церковь заметила "неизмеримо великую опасность", - не делает чести светскому правительству. Оно, казалось бы, обязано видеть собственными глазами ту мерзость, что так громко вопиет к небу. Потворство для всех очевидной, явно вредной, безусловно гибельной пропаганды зла заставляет множество простых русских людей спрашивать в отчаянии: когда же конец этому?
1907
ДВЕ РОССИИ
На Конюшенной выставлена картина, похожая на видение, на благочестивый сон. Морозный день, снежная долина. Слева засыпанный снегом монастырек на круче. Оттуда выходит Христос, светлый и царственный. За ним сухонькие старички - св. Николай-угодник в ризе, св. Сергий в иноческом клобуке, за ними молодой св. Егорий. Как будто они сошли с древнего иконостаса, из церковных потемок на улицу, и их встречает народ. Первая повалилась в ноги Спасу Милостивому и зарыла в снегу лицо свое простая баба деревенская. Смиренно пал на колени мужичок в лаптях, склонив седую голову. В заплатанных полушубках ребятки - один, кажется, слепой - с милыми детскими выражениями лиц. Дальше боярыня в платочке или купчиха, раскольник, послушник... В центре картины древний подвижник, носитель духа земли, как бы толкает ко Христу всю эту кучку верных. Немного дальше бредут бабы-странницы в лаптях и в отдалении, поддерживаемая мамкой и схимницей, стоит молодая красавица-кликуша, больная, восхищенная видением Христа, готовая вылить душу свою в безумном крике, в отчаянном порыве к нему... Символ несчастной и все еще блаженной в вере своей захудалой земли.