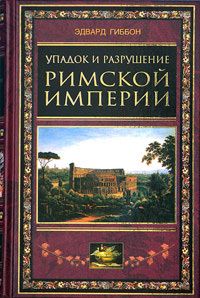В конце концов ровно через год после того, как Киприан впервые оказался под угрозой, Галерий Старший, проконсул Африки, получил императорское указание казнить христианских учителей. Епископ Карфагена сознавал, что его выберут одной из первых жертв; слабость человеческой природы заставила его поддаться искушению и тайно бежать от опасности и от чести стать мучеником, но вскоре, вновь обретя то мужество, которое было ему необходимо для поддержания его репутации, он вернулся в свои сады и стал терпеливо ждать тех, кто придет вести его на смерть. Два высокопоставленных чиновника, которым это было поручено, посадили Киприана в колесницу, сами сели по бокам от него и, поскольку проконсул был в это время занят чем-то другим, отвезли епископа не в тюрьму, а в принадлежавший одному из них дом в Карфагене. Там епископа развлекли изысканным ужином, и его друзьям христианам было позволено в последний раз насладиться его обществом, а улицы в это время были заполнены толпой верующих, которые тревожились за своего духовного отца. На следующее утро он предстал перед судом проконсула, и тот, осведомившись об имени и общественном положении Киприана, велел ему совершить языческое жертвоприношение и настоятельно потребовал, чтобы тот хорошо подумал о последствиях отказа повиноваться. Киприан отказался твердо и решительно, и представитель власти, спросив сначала мнение членов своего совета, не совсем охотно произнес смертный приговор, который был сформулирован так: «Тасций Киприан должен быть немедленно казнен через отсечение головы как враг богов Рима и как глава и предводитель преступного сообщества, которое он вовлек в нечестивое сопротивление законам святейших императоров Валериана и Галлиена». Казнь была самой легкой и безболезненной, какая была возможна для человека, приговоренного к смерти за преступление; кроме того, епископа Карфагенского не было позволено пытать с целью добиться от него отречения от принципов или выяснить, кто его сообщники.
Как только приговор был произнесен, толпа христиан, ожидавших у ворот дворца и слушавших, что говорили на суде, тут же отозвалась на него общим криком: «Мы умрем вместе с ним!» Но этот благородный порыв религиозного рвения и любви не помог Киприану и не был опасен для самих кричавших. Епископа без сопротивления и без оскорблений отвели под охраной трибунов и центурионов на место казни – на просторную плоскую равнину возле города, которая уже была заполнена множеством зрителей. Верные Киприану пресвитеры и дьяконы получили разрешение сопровождать своего святого епископа. Они помогли ему снять и уложить рядом верхнюю одежду, расстелили на земле полотно, чтобы собрать его кровь как драгоценную реликвию, и получили от него указание дать двадцать пять золотых монет палачу. После этого мученик закрыл лицо ладонями, и его голова одним ударом была отделена от тела. Его труп несколько часов оставался лежать там же напоказ для любопытных иноверцев, но ночью был взят оттуда и в торжественной процессии, при великолепной иллюминации перенесен на христианское кладбище. Похороны Киприана были пышными и публичными, и римские власти нисколько не мешали этому. Тем из верующих, кто оказал последние услуги Киприану при жизни и отдал ему последние почести после его смерти, не угрожали ни следствие, ни наказание. Следует отметить, что из великого множества епископов провинции Африка Киприан первый был признан достойным мученического венца.
Киприан имел возможность выбрать, умереть ему мучеником или жить вероотступником, но первое означало честь, а второе – бесчестье. Если бы мы предположили, что епископ Карфагена пользовался христианской верой лишь как орудием своей жадности или честолюбия, он все же был бы обязан поддержать репутацию, которую себе создал, и, обладай он хотя бы крупицей мужской отваги, должен был скорее обречь себя на самые жестокие пытки, чем одним поступком променять добрую славу, заработанную всей жизнью, на отвращение и ненависть собратьев-христиан и презрение язычников. Но если религиозное рвение Киприана поддерживалось искренним убеждением в истинности тех правил, которые он проповедовал, то мученический венец, должно быть, был для него желанным, а не страшным. Трудно извлечь хотя бы одну четко выраженную мысль из туманных, хотя и красноречивых декламаторских фраз отцов церкви, трудно также точно определить, сколько вечной славы и вечного счастья они уверенно обещали тем, кому повезло пролить кровь за дело веры. Они внушали христианам с подобающим в этом случае усердием, что огонь мученичества восполняет все недостатки и очищает от любого греха; что пока души обычных христиан должны проходить медленное и болезненное очищение, торжествующие страдальцы немедленно получают вечное блаженство там, где рядом с патриархами, апостолами и пророками они царят вместе с Христом и служат ему помощниками в суде надо всем человечеством. Уверенность, что их ждет долгая земная слава – цель, добиваться которой так свойственно людям, ибо человек по своей природе тщеславен, – часто придавала отвагу мученикам. Почести, которые Рим или Афины воздавали гражданам, павшим за родину, были холодными и бессодержательными знаками уважения по сравнению с горячей благодарностью и пылкой преданностью, которые ранняя церковь дарила победоносным защитникам веры. Ежегодные празднества в память об их добродетелях и страданиях были священными церемониями и в конце концов стали религиозными обрядами. Тем из открыто исповедовавших свои религиозные принципы христиан, кто (как случалось очень часто) выходил на свободу из суда или тюрьмы языческих властей, оказывались почести, которых по справедливости заслуживали их незавершенное мученичество и благородная решимость. Самые благочестивые христианки умоляли освобожденных о разрешении поцеловать побывавшие на их теле оковы или полученные ими раны. Они считались святыми, их решения почтительно выполнялись, и эти люди очень часто предавались гордыне и разврату, злоупотребляя тем огромным преимуществом, которое завоевали благодаря религиозному рвению и бесстрашию[53].
Все эти различия, хотя и показывают, как велики заслуги тех, кто пострадал или погиб за христианскую веру, позволяют понять, что и тех и других было немного.
Трезвомыслящие сдержанные люди наших дней охотнее осудят пылкую веру первых христиан, чем восхитятся ею, но восхититься могут легче, чем подражать в вере этим людям, которые, как ярко выразился Сульпиций Север, желали стать мучениками сильнее, чем в его собственное время те, кто добивался епископского сана, – епископами. Послания, которые составлял и отправлял Игнаций, когда его везли в цепях через города Азии, проникнуты чувствами самыми несовместимыми с человеческой природой. Он искренне предупреждает римлян, чтобы они своим добрым, но неуместным заступничеством не лишали его венца славы, и заявляет, что решил сам первый дразнить и злить тех диких зверей, которых могут сделать орудиями его казни. Существует несколько рассказов о мужественных мучениках, которые действительно сделали то, что собирался сделать Игнаций: доводили до ярости львов, торопили палача, чтобы он быстрее делал свое дело, весело прыгали в огонь, на котором их должны были сжечь, с видимыми радостью и удовольствием принимали самые изощренные пытки. До нас дошло несколько примеров того, как религиозное рвение христиан нетерпеливо ломало те преграды, которые императоры установили ради безопасности церкви. Иногда христиане, не имея обвинителя, сами вместо него добровольно заявляли о своей принадлежности к новой вере, грубо прерывали религиозные службы язычников или, толпами сбегаясь со всех сторон к зданию суда своего наместника, кричали, чтобы им вынесли приговор и исполнили его. Поведение христиан так бросалось в глаза, что древние философы не могли не заметить его, но они, похоже, смотрели на него больше с изумлением, чем с восхищением. Не в состоянии понять те побуждения, которые иногда делали силу духа и стойкость христиан сильнее благоразумия и рассудка, они считали такую жажду смерти странным результатом упрямого отчаяния, тупой бесчувственности или исступленного суеверия. «Несчастные! – крикнул христианам Азии проконсул Антонин. – Если вы так устали от жизни, разве вам трудно найти веревки и пропасти?» Он (по словам одного ученого и благочестивого историка) очень остерегался наказывать людей, которые не нашли ни одного обвинителя, кроме себя самих, поскольку этого не ожидали и в имперских законах ничего не говорилось о таком случае; поэтому, вынеся приговоры немногим в качестве предупреждения для их собратьев, он с негодованием и презрением велел толпе разойтись. Несмотря на это подлинное или притворное презрение, бесстрашие и постоянство верующих гораздо благотворнее действовали на те души, которые природа или небесная благодать сделали способными легко воспринять истинную религию. Во всех этих печальных случаях среди нехристиан было много жалевших, восхищавшихся и обращавшихся в христианство. Благородное воодушевление страдальца передавалось зрителям, и кровь мучеников, по хорошо известному выражению, стала семенами церкви.