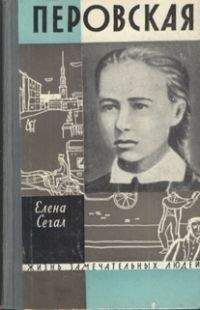Через посредство Похитонова Рогачев был вызван мной с места службы в Полтаву, где я встретилась с ним. В нескольких длинных беседах мы обсудили все вопросы, и Рогачев дал согласие выйти в отставку и отдаться общереволюционной деятельности.
В Одессу и Николаев я дала Дегаеву все нужные адреса и указания. Там он встретил отказ Крайского и согласие Ашенбреннера. Последний затем начал хлопотать об 11-месячном отпуске и, когда получил его, уехал в Петербург.
В Петербурге Дегаев виделся с членами военной организации и подтвердил мое предположение, что ее деятельность сошла на нет: в самом деле, со времени ареста Суханова ни личный состав организации не увеличился, ни прочных связей в провинции с тех пор не было заведено. Какой ответ дал Завалишин, я в настоящее время не помню. Вероятно, этот ответ не был так категоричен, как ответ Ашенбреннера и Рогачева, иначе это осталось бы в памяти.
2. Свидание с Михайловским
15 октября, в то время как Дегаев находился в отъезде, ко мне в Харьков неожиданно приехал Михайловский. Разыскав меня, он сказал, что целью его приезда является весьма важное дело, по которому необходимо получить ответ. Это дело состояло в следующем: в Петербурге к нему явился известный литератор Николадзе и сообщил, что одно очень высокопоставленное лицо[231] просило его быть посредником между правительством и партией «Народная воля» и поручило ему войти в переговоры с Исполнительным комитетом для заключения перемирия.
Правительство, со слов Николадзе, передавал Михайловский, утомлено борьбой с «Народной волей» и жаждет мира. Оно сознает, что рамки общественной деятельности должны быть расширены, и готово вступить на путь назревших реформ. Но оно не может приступить к ним под угрозой революционного террора. Этот террор, только он, препятствует осуществлению этих реформ. Пусть «Народная воля» прекратит свою разрушительную деятельность, и они будут проведены. Если «Народная воля» решится воздержаться от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест, дающий: 1) полную политическую амнистию; 2) свободу печати и 3) свободу мирной социалистической пропаганды. А в доказательство своей искренности правительство освободит кого-нибудь из осужденных народовольцев, например Исаева.
Выслушав Николадзе, Михайловский решился повидаться с кем-нибудь из членов Исполнительного комитета, а так как единственным представителем его в России оставалась я, то он и передает мне то, что слышал от Николадзе.
Сам Михайловский придавал большое значение миссии, возложенной высокопоставленным лицом на Николадзе. Я же нашла в ней повторение того, чем в 1879 году прокурор Добржинский обольстил Гольденберга. Добржинский тоже уверял Гольденберга в благожелательности правительства, которому в проведении необходимых реформ мешает террористическая деятельность Исполнительного комитета. Во имя блага родины он увещевал Гольденберга пожертвовать друзьями и товарищами и расчистить широкий путь к свободе русского народа.
Результаты известны: Гольденберг раскрыл все, что ему было известно, и хотя физически не отдал никого в руки правительства, но дал некоторые адреса, описал наружность, дал характеристику всех лиц, которых когда-либо встречал, а когда увидел, что обманут, повесился в Петропавловской крепости, как нас тотчас же уведомил Клеточников (летом 1880 года).
Я не буду здесь приводить все доводы, которые убеждали меня в том, что это ловушка, чтобы, завязав переговоры, обеспечить безопасность коронации, или же обыкновенная хитрость полицейского сыска, для того чтобы найти нить, по которой можно было бы проследить народовольческую организацию. Желающие могут найти все подробности об этом в моей статье «Из политической жизни 80-х годов»[232]. На все мои возражения, указывающие на несерьезность и даже опасность каких бы то ни было сношений по данному делу, Михайловский поставил вопрос: «А может ли фактически партия произвести какие-нибудь террористические действия в настоящее время?»
На это мне пришлось сказать правду: положение революционной организации не дает надежд на это.
«В таком случае вы ничего не теряете, — сказал Михайловский, — а выиграть кое-что все же можете».
В конце концов мы остановились на том, что, категорически отказываясь вести в России какие-либо переговоры с Николадзе по данному делу, я, не сообщая ему, пошлю за границу лицо, которое передаст Тихомирову и Ошаниной как о миссии Николадзе, так и о моем отношении к ней, предоставляя им, если он явится, поступить по своему разумению, причем мы в России не будем считать себя связанными каким бы то ни было исходом переговоров, которые они будут вести, и если обстоятельства будут благоприятны, то останемся вольны и в области террористических действий. Михайловский же обещал сказать Николадзе, что никого из Комитета он не нашел и что члены его находятся за границей. Когда Дегаев вернулся из объезда, я передала ему и вызванному из Киева Спандони о моем свидании с Михайловским. Они вполне одобрили как мое отношение к делу, так и предложенную мной посылку в Париж к Тихомирову своего человека. Подходящей для этого была Салова.
Я вызвала ее из Одессы, рассказала все, что было нужно, и поручила взять заграничный паспорт, чтобы отправиться к Тихомирову для передачи всего вышеуказанного, что она и исполнила без отлагательства[233].
После объезда военных групп, когда выяснилось, что в общепартийный центр войдут Ашенбреннер и Рогачев, можно было приступить к восстановлению партийной типографии. Литературными силами мы были обеспечены только со стороны Михайловского, с которым я уговорилась об этом при свидании в Харькове, и со стороны Лесевича, которого я посещала, бывая в Полтаве. Суровцев по моему поручению съездил на это время в Москву и, получив шрифт из склада, отослал его в Одессу, которая была намечена как место, наиболее подходящее для устройства типографии. Работать в ней должен был Суровцев, а хозяевами, как было уже сказано, согласились быть супруги Дегаевы. Оставалось найти лицо, подходящее для роли прислуги.
Я уже не раз слышала о сестре Ивана Калюжного, сосланного на каторгу, Марье Васильевне[234], жившей в Ахтырке в очень тяжелых условиях, из которых она хотела выбраться. Мне характеризовали ее как не очень развитую, но добрую, веселую и здоровую девушку, простую по внешности и манерам. Я вызвала ее в Харьков и, познакомившись, убедилась, что в случае ее согласия участвовать в типографии в роли прислуги лучшего выбора сделать невозможно. Хотя она не обладала теоретическим образованием, но вполне сочувствовала революционной деятельности «Народной воли». Поэтому сговориться с ней было нетрудно. Я свела ее с Дегаевым и его женой, и мы уговорились, что первыми выедут Дегаевы, а вслед за ними, когда они подыщут подходящую квартиру, к ним приедет и Калюжная. Это было в 20-х числах ноября. Тогда же в Одессу отправился Суровцев. Спандони, переехавший из Киева в свою родную Одессу, должен был, соблюдая всевозможные предосторожности, быть посредником между типографией и внешним миром в смысле доставки в нее литературного материала и получения того, что будет в ней напечатано.
1. Арест одесской типографии
В 20-х числах декабря из Одессы пришло известие, что там открыта тайная типография и арестовано пять лиц, причастных к ней (Дегаев с женой, Калюжная, Суровцев и Спандони). Итак, только что организованная типография просуществовала недель пять, и все предприятие рухнуло. Это был тяжелый удар: исчезла последняя надежда на скорое восстановление партийного органа, по существованию или отсутствию которого правительство и широкие круги общества обыкновенно судили о положении революционного дела.
С тяжелым чувством вспоминаю я темную полосу жизни, наступившую вслед за тем. Я видела, что все начинания мои не приводят ни к чему, вся моя деятельность безрезультатна. Что я ни придумывала — все сметалось, принося гибель тем, кого я привлекала к участию. Погибли Никитина, Комарницкий, Ивановская, пять человек в Одессе. Я упорствовала, но все было напрасно. Возможно ли в самом деле было отступить, когда молодые души издали смотрели на меня с надеждой, ища нравственной поддержки для себя? Помню одно письмо, полученное тогда: знакомая девушка, нелегальная, преследуемая и не знающая, куда деваться, писала, что на темном горизонте ее омраченной души одна светлая звездочка — я. После моего ареста она убила себя, бросившись под поезд. И разве я сама не писала Тихомирову, что он не имеет права уезжать за границу, что мы не должны бежать от деятельности, начатой нами, и что его отъезд внесет деморализацию в революционную среду?