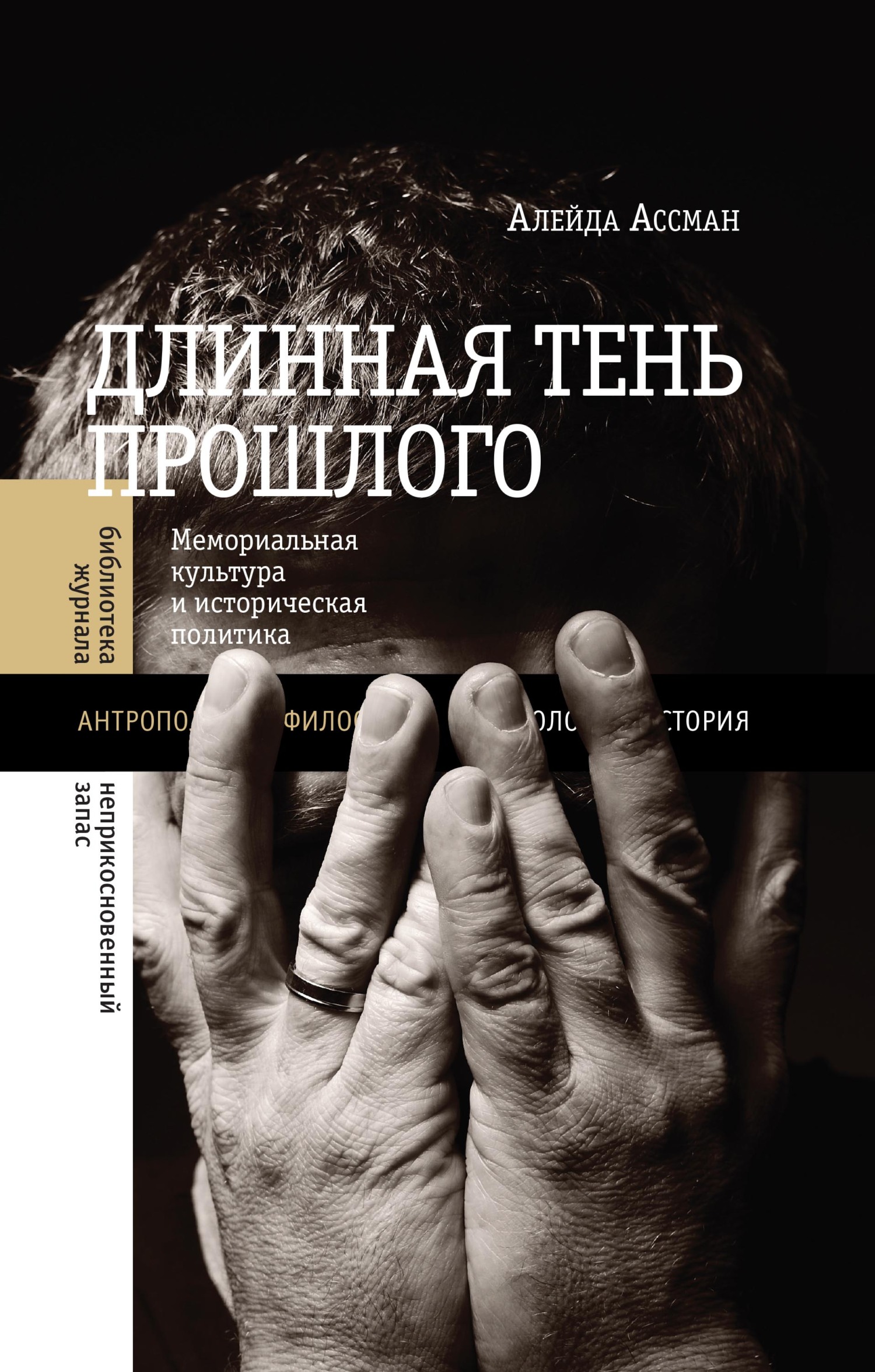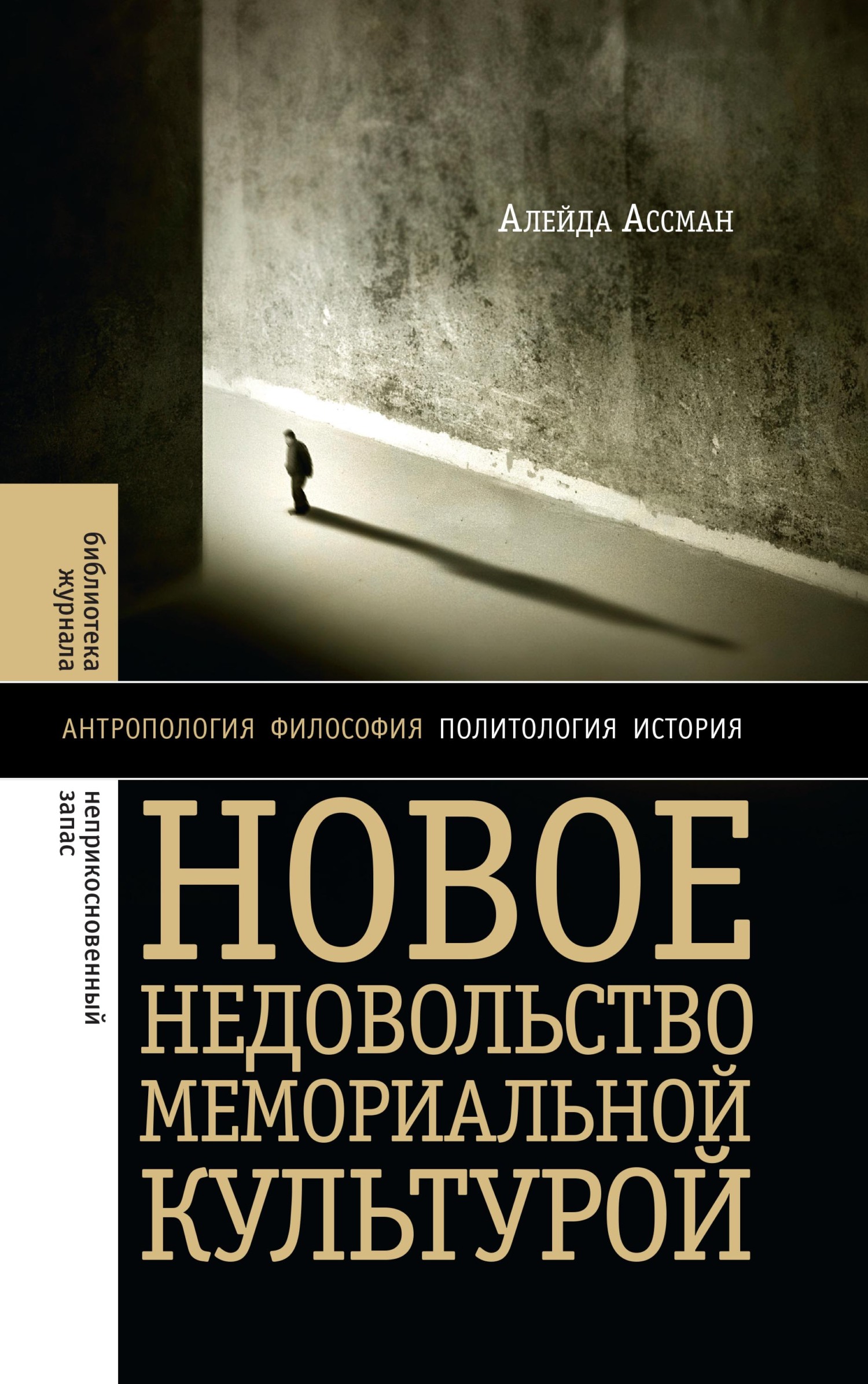виктимизация: является ли для него абсолютной доминантой понятие чести, или же важна исключительно роль жертвы?
– Экстернализация или интернализация: отвергается вина или принимается?
Мы не раз говорили о мемориальном этическом повороте, который одновременно является поворотом от героической памяти к памяти постгероической. «Постгероическое» подразумевает представление о травме, которое впервые после долгой фазы автоглорифицированной памяти выдвинуло на передний план беззащитную и пассивную фигуру жертвы. Память о Холокосте ознаменовала собой начало новой мемориальной фазы – ауратизации жертвы, которая открыла новый подход к насильственным аспектам истории (достаточно вспомнить о рабах, вывезенных из Африки, или о колонизации местного населения разных континентов) и в конце концов привела к конкуренции среди жертв. Возможно, апогей этой фазы уже пройден. Но понятие «постгероическое» употребляется и в тех случаях, когда речь идет о возможности мемориального дискурса вне его морального содержания. Сюда же относится понятие «мемориальный менеджмент», носящее чисто прагматический характер холодного (cool) и внеидеологического обращения с конструктами памяти, отличающего более молодое поколение от поколения 1968 года с его мемориальной стилистикой, которая основана на сострадании и сознании вины: «Чтобы справиться с неприятными аспектами истории, необходим определенный „менеджмент“; решение этой проблемы должно ориентироваться не на будущее состояние коллективного сознания, а на конкретные насущные задачи предотвращения конфликтов и на нормализацию условий общественной коммуникации и социальной миграции» [450].
Этот бодрый прагматизм не может отрицать того обстоятельства, что в памяти о национал-социализме сохраняется «беспокоящий остаток». Как писал Кристиан Майер, «обычно не бывает, чтобы по истечении сорока лет настоящее все еще находилось в плену у прошлого» [451]. Подобная аномалия, сбившая привычное соотношение прошлого и настоящего, объясняется уникальностью того преступления, символом которого стал Аушвиц. Универсальной метафорой плена, который не кончается и из которого нельзя вырваться, является тень. Ни одна метафора не появляется в немецком мемориальном дискурсе так часто, как образ тени, что не в последнюю очередь оправдывает количество книг, в названии которых фигурирует это слово [452]. Тень означает не только устойчивое присутствие – она затемняет и омрачает. Еще раз процитируем Кристиана Майера: «Насколько Аушвиц никак не может считаться целью немецкой истории, настолько сильна его тень, которая продолжает лежать на этой истории» [453].
Когда же мы сумеем выйти из тени национал-социализма и Холокоста? Тем, кто задает этот вопрос, Кристиан Майер уже двадцать лет назад ответил: «Нет, непредвзятого отношения к нашей истории нам не обрести. Даже сознание ее богатства навсегда останется омраченным» [454]. Если под «тенью» понимать непрекращающееся присутствие травматического прошлого, то с ней нам придется жить и дальше. Холокост был своего рода квантовым скачком во всемирной истории зла, поэтому мы будем вынуждены жить с сознанием необратимости того, что наше представление о человеке навсегда будет омрачено и мы, немцы, должны принять историческую ответственность за это. Подобный квантовый скачок в истории ставит задачи перед системой политического образования, не имеющие ничего общего со «службой памяти о жутком прошлом», о которой говорил Мартин Вальзер. Все, «кто постоянно поражается реальными масштабами существующей мерзости, кто ужасается (не веря) при столкновении с ужасной жестокостью, творимой одними людьми по отношению к другим, еще не достигли стадии моральной или психологической зрелости», – пишет Сьюзен Зонтаг [455].
Но «тень» нельзя, однако, трактовать как совершенно беспросветное будущее, мрачную меланхолию или даже ненависть к самому себе. «Негативные воспоминания» не следует отождествлять с негативным представлением о самом себе. Негативные воспоминания выжжены клеймом на фундаменте немецкого государства. Но эта стигма может быть конвертирована в положительные ценности, открывающие горизонты будущего: в утверждение прав человека, как они провозглашаются основным законом ФРГ. Произошедший чудовищный отказ от человеческой солидарности переведен в позитивные ценности признания прав другого человека. Эти базовые ценности (а не только добродетели вроде трудолюбия, усердия и высокой производительности труда) позволили нашей стране вновь войти в сообщество цивилизованных наций и служат критериями для оценки нашего будущего.
«То, что было радостями и горестями, должно теперь стать знанием», – писал Якоб Буркхардт в середине XIX века, надеясь, что рациональная историческая наука сумеет преодолеть эмоции действующих лиц истории [456]. В начале XXI столетия мы переживаем скорее нечто противоположное: возрастающий интерес к истории сопровождается новым эмоциональным насыщением истории, которым (если отвлечься от эйфории в связи с чемпионатом мира по футболу) более присущи горести, нежели радости. Мы задаемся вопросом, сколь долго еще будет удерживаться эта тень, и на него следует ответ другого мыслителя XIX века: «Лишь то, что не перестает причинять боль, остается в памяти» [457]. Таков, по словам Ницше, древнейший закон культурной мнемотехники. Эта мысль Ницше особенно справедлива по отношению к жертвам, а именно в их руках находится мерило памяти. То, чего не могут забыть жертвы, обязаны не забывать потомки преступников. Поэтому еще на какое-то время будет верно то, о чем сказал художник Хорст Хоайзель в своем интервью, процитированном в начале книги: «Когда проходишь через Бранденбургские ворота, когда туда приводят государственных деятелей, приезжающих со всего мира, когда эти ворота используются для того, чтобы выстраивать новую национальную идентичность, необходимо помнить о тех самых других воротах, которые находятся далеко-далеко в Польше; но о них нужно помнить, нужно видеть их здесь и чувствовать их присутствие».
Ackermann Ulrike, Vergessen zugunsten der Zukunft? // Merkur 643 (56. Jahrgang, November 2002), 992–1001.
Adorno Theodor W., Negative Dialektik, Frankfurt 1971.
Agamben Giorgio, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt 2002.
Akademie der Künste Berlin (Hg.), Denkmale und kulturelles Gedächtnis nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation, Berlin 2000.
Alexander Jeffrey, On the Social Construction of Moral Universals: The «Holocaust» from War Crime to Trauma Drama // Jeffrey Alexander et al. (Hg.), Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley 2004, 196–263.
Anders Günter, Wir Eichmannsöhne. Offener Brief an Klaus Eichmann, München 2002.
Anderson Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1985.
Annette Leo (Hg.), Die wiedergefundene Erinnerung. Verdrängte Geschichte in Osteuropa, Berlin 1992.
Arendt Hannah, Organisierte Schuld // Die Wandlung 1 (1946), 333–344.
Assmann Aleida, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, 3. Aufl., München 2006.
Assmann Aleida, Fiktion als Differenz // Poetica 21 (1989), 239–260.
Assmann Aleida, History, Memory, and the Genre of Testimony // Poetics Today 27:2 (2006), 261–273.
Assmann Aleida, Persönliche Erinnerung und kollektives Gedächtnis in Deutschland nach 1945 // Hans Erler (Hg.), Erinnern und Verstehen. Der Völkermord an den Juden im politischen Gedächtnis der Deutschen,