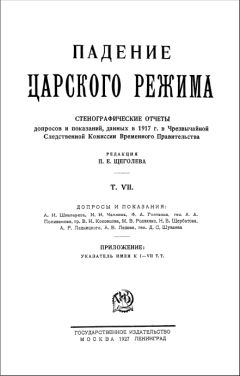То, чего ждала с трепетом Жученко, свершилось. Карты раскрыты, предатель разоблачён. В третьем акте драмы следовало бы, по теории, дать раскаяния и наказаний. Но раскаяния не было, была только гордость содеянным, гордость своим поведением во время разоблачения. И несомненно, эта гордость запретила ей спасаться от наказания. "Теперь что же дальше? – пишет она 12 августа фон Коттену. – Думаю, что с ним была пара эсеров; если нет (он отрицает), то приедут и, конечно, крышка. Очень интересно было бы знать, что Вы мне посоветовали бы. Я сама за то, чтобы не бежать. К чему? Что этим достигается? Придётся вести собачью жизнь. И ещё с сыном. Быть обузой вам всем, скрываться, в каждом видеть врага и, в конце концов, тот же конец! А вдобавок подлое чувство в душе: бежала! Из-за расстояния должна решать сама, одна. Мой друг! Конечно, хочу знать Ваше мнение, но придётся ли его услышать? Они доберутся раньше Вашего ответа. Ценой измены Вам, Е. К (Е. К Климовичу), всему дорогому для меня могла бы купить свою жизнь. Но не могу! «Вы должны порвать с ними окончательно и все рассказать». – «Отказываюсь!» Простите за неординарный зигзаг мысли, но мне малодушно хочется рассказать Вам, как мой милый мальчик реагировал на мой рассказ (я должна была приготовить его, сказать ему сама, взять из школы). Так вот он говорит: ich werde sie selbst schiessen, vielleicht wird diesse Bande dich doch niht todten!
Простите за отступление, но Вы поймёте, что я исключительно занята мыслью о дорогом сыне".
Со дня на день ждала Жученко расплаты и каждый день писала фон Коттену, чтобы он знал, что она ещё жива. 13 августа она сообщала ему; «Центральный Комитет теперь уже знает, что я не приняла их условий. Не думаю, чтобы они оставили меня так; надо полагать, придумают способ убрать. Задача для них не такая лёгкая: будут, конечно, думать, как бы „исполнителю“ сухим из воды выйти. Я совершенно открыто хожу по улицам и не собираюсь уезжать. Газеты ещё молчат…; Дорогой мой друг! Как хорошо бы с Вами сейчас поговорить. Жду Вашего привета. Чувствую себя хорошо, свободно – стоило жить!»
В тот же день Жученко писала и другому своему другу Е.К. Климовичу: «Теперь жду, что дальше будет. Конечно, убьют. Бежать, начать скитальническую жизнь – нет сил, потеряю равновесие, буду вам всем обузой… Хотя бы эта банда, как выразился мой дорогой мальчик, убила и не обезобразила бы меня. Это моё единственное желание. С каким наслаждением я поговорила с Бурцевым, бросила через него эсеровской банде все моё презрение и отвращение. Надеюсь, он не извратит моих слов».
14 августа Жученко писала фон Коттену: «Дорогой мой друг! Боюсь только одного: серной кислоты. Начинаю думать, они не убьют меня. Довольно трудно ведь. Они уверены, что я окружена толпой полицейских. И „жалко жертвовать одним из славных на провокатора“ – думается мне, говорят они. Вероятно, дойдут до серной кислоты. Конечно, и это поправимо… Но обидно будет. Потом, боюсь, что Бурцев извратит мои слова – и это будет особенно скверно. И особенно опасаюсь, что они похитят сына. Несколько раз представляла себе, как будет, что я буду ощущать, когда меня откроют, и, к своему счастью, вижу, что это гораздо легче. Просто-таки великолепно чувствую себя. При мысли, что они застрелят меня, конечно. С Бурцевым держала себя гораздо лучше, чем могла ожидать от себя в Москве при мысли о сём моменте».
Прошло ещё несколько дней. Центральный комитет официально объявил о провокаторстве Жученко. Бурцев сдержал слово и не скрыл о ней правды. Жученко стала предметом острой газетной сенсации. Она не была убита, не была обезображена, сын был при ней, и она жила по-прежнему на своей квартире. Департамент оплатил её услуги «княжеской» пенсией, а 7 ноября она писала В. Л. Бурцеву: «Осень моей жизни наступила для меня после горячего лета и весны».
Прошло ещё насколько месяцев. Была неприятность с берлинской полицией; она хотела было выдворить из Берлина русскую шпионку, о которой шумела пресса, но по просьбе русского Департамента полиции согласилась оставить Жученко в покое. В письме её к фон Кот-тенуот 18 февраля 1910 года находится любопытное сообщение об отношении к ней берлинской полиции. «У меня тут опять буря в стакане воды. С. – д. Либкнехт сделал запрос в прусском ландтаге министру внутренних дел, известно ли ему, что Ж. снова в Шарлоттенбурге и „без всякого сомнения продолжает свою преступную деятельность“. Недостатка в крепких выражениях по моему адресу, конечно, не было. Я ожидала, что президент (берлинской полиции) после этого запроса снова посоветует мне уехать. Но они отнеслись к этому выпаду очень спокойно. Показали мне только анонимное письмо президента с советом выселить русскую шпитцель, иначе произойдёт что-либо скверное. Я думаю, что это в последний раз упоминается имя Ж. Пора бы, право, и перестать, тем более что я буквально ни с кем не вижусь и не говорю. Своего рода одиночное заключение, только с правом передвижения. Надеюсь, что через полгода окончательно свыкнусь и угомонюсь».
И действительно, через некоторое время Жученко угомонилась. Для неё все было в прошлом, и в этом прошлом, ей дорогом, она жила в воспоминаниях и переписке со своими друзьями-руководителями. Разоблачение ни на йоту не изменило её теоретического уклада, и секретное сотрудничество казалось ей по-прежнему делом нужным и важным. Приводим характернейшие выдержки из её письма 1910 года к Е.К.Климовичу «Изгоев в „Речи“, который является легальным граммофоном того несуществующего ныне, что было партией эсеров, очень утешительно говорит, что Меньшиков возбуждает гадливое чувство. Ну, нравственным возмущениям – грош цена в данном случае, но это показывает, что вот предположение, будто Меньшиков мог бы работать в революционных организациях, едва ли осуществимо. Кто возьмёт его к себе? Меня больше занимает заметка здешней прессы, русское правительство якобы встревожено намерением сего субъекта что-то там опубликовать. Главный вред от него налицо, мы проваленные! Остаётся, следовательно, пресловутое дискредитирование и прочая пальба из пушек по воробьям. Но это ведь лишь минутное волнение и одно времяпровождение, Ничего не изменится; главное всегда считается – сотрудники есть и будут, а следовательно, и банда не сможет поднять высоко головы. Интересно знать, когда это вошло в обращение слово – провокатор? Кажется, с 905 года. И вот с тех пор нас обвиняют всегда в провокации. И пусть! От этого обвинения Департамент полиции ещё не рушился. А что другое может разоблачить Меньшиков? Остаётся только радоваться, что предатель известен. Все многочисленные провалы, все их причины, – хочу сказать, азефский и мой, особенно – показывают, что наша система преследования шаек и проч. К0 – жизненна и плодотворна. А это громадное утешение! тЪвотао это с убеждением, зная теперь, откуда шли все разоблачения, предательства. Само собой, мы никогда не провалились бы при вашем Мих. Фр. (фон Коттен) и других ведений агентуры. И мне даже опасно что вы могли хоть только остановиться на вопросе, не были ли вы причиной моего провала! От предательств не упасется никто… О, если бы не Меньшиков! Тяжело, мой,дру1 не быть у любимого дела, без всякой надежды вернуться к нему!»
В момент объявления войны Жученко жила в Берлине. В первые же дни она была арестована и заключена в тюрьму по подозрению в шпионаже в пользу России. В тюрьме она находилась ещё и в 1917 году. Дальнейшая её судьба неизвестна.
Мы же обратимся к суперпровокатору в российском терроре Евно Азефу, беспринципному и корыстолюбивому негодяю, не без успеха лавировавшему между полицией и революционерами. Им двигала только личная польза. Он и внешне выглядел очень неприятно: здоровый, с толстым скуластым лицом, выпученными глазами.
В апреле 1906 года «охранка» интенсивно искала следы террористов, готовящих покушение на Дурново. Они следили за домом министра под видом извозчиков и держали связь с четвёртым, явно руководителем. Этого-то четвёртого и опознал один из филёров, утверждая, что это «наш». Пять лет назад в кондитерской Филиппова его показал филёру помощник начальника «охранки» Зубатова Медников, сказав, что это очень важный и ценный сотрудник.
Начальник петербургской «охранки» Герасимов не знал, что и думать. Никакого агента у них в «Боевой организации» не было. Он запросил Департамент полиции, но Рачковский ответил то же. Тогда «четвёртого» втихую задержали и доставили к Герасимову. Он возмущался и грозил влиятельными друзьями.
– Я – инженер Черкас. Меня знают в обществе. За что я арестован?
Герасимов отвечал:
– Все это пустяки. Я знаю, вы раньше работали в качестве нашего секретного сотрудника. Не хотите ли поговорить откровенно?
– О чем вы говорите? Как это пришло вам в голову?
– Хорошо, – сказал Герасимов. – Если не хотите сейчас говорить, вы можете ещё подумать на досуге. Мы можем не спешить. Вы получите отдельную комнату и можете там подумать. А когда надумаете, скажите об этом надзирателю.

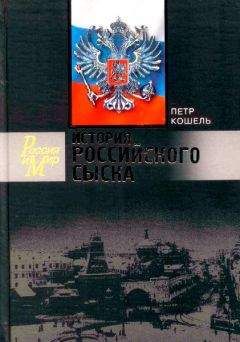
![Дмитрий Бантыш-Каменский - История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче. Часть 1 [Издание 4]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)