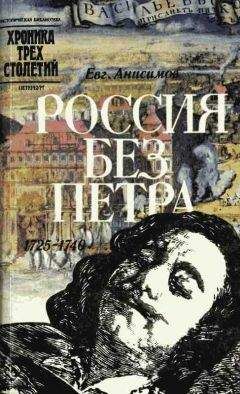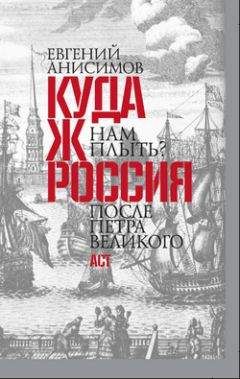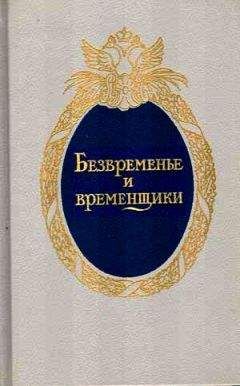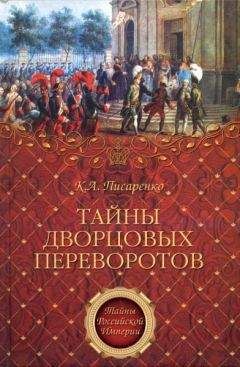И далее следовал собственно донос — «Обстоятельная слов тех записка»: «Сего октября 9-го дня 1738 года присланный от Правительствуюсчаго Сената для переписи в землях пожалованных кресченым калмыкам, населившихся крестьян, полковник Семен Дмитриев сын Давыдов, будучи в доме у тайного советника Татисчева, говорил непристойное: 1. За обедом, где было персон 10… сказал…» — и далее следовало еще шесть пунктов, фиксирующих «непристойные» речи Давыдова20.
Чаще всего о государственном преступлении извещали устно — либо прямо в Петербург в Тайную канцелярию, либо местному начальнику. Известны и такие варианты объявления «слова и дела»: «Кронштадтской гарнизонной школы малолетной Иван Бекренев, пришед под знамя к часовым гренадерам… сказал за собою «слово и дело государево» и показал в том…» — далее следует список свидетелей. Примерно так же поступил и доносчик П. Михалкин, который, «пришед к Летнему Е. и. в. дворцу, объявил стоящему на часах лейб-гвардии салдату, что есть за ним, Павлом, слово и чтоб ево объявить где надлежит».
Объявление «слова и дела» подчас представляло собой весьма экзотичное зрелище: взволнованный человек, нередко пьяный, выбегал на людное место и громко кричал: «Караул!» и «Слово и дело!» — после чего его хватали и немедленно волокли в присутственное место; все же, видевшие эту впечатляющую сцену, сразу разбегались, чтобы не попасть в свидетели, — о печальной участи свидетеля будет сказано ниже.
Чрезвычайно распространенным было объявление «слова и дела» накануне или во время экзекуции за какое-нибудь мелкое преступление, должностной проступок. Вот типичный случай. Капитан Кексгольмского полка Ватковский приказал выпороть писаря Зашихина, где-то пропьянствовавшего два дня, и «оной Зашихин сказал ему; «Не бей меня, я скажу за собою «слово и дело!», а как стали роздевать и он, Зашихин, вырвался у барабанщиков из рук и, выбежав на крыльцо, закричал за собою Е. и. в. „слово и дело“». Естественно, в подобном случае экзекуция приостанавливалась и доносчика вели в Тайную канцелярию21.
В Тайной канцелярии, «где тихо говорят» (термин, бытовавший в народе), шума не любили — сыск вообще не любит быть в центре общественного внимания. Курьер Колычев, донесший в 1732 году прямо при дворе Анны на симбирского воеводу князя Вяземского «в непитии здоровья» императрицы, не только не получил награды за донос, но был оштрафован и записан на два месяца в солдаты, так как «о вышепоказанном известном (т. е. ординарном — Е. А.) деле… извещал необычно, якобы о неизвестном деле», то есть, вероятно, орал во всеуслышание как об особо опасном преступлении.
Такое же порицание получил и крестьянин С. Иванов, донесший на своего помещика о «непристойных словах», о которых он узнал от своей дочери. Донос Иванова был оценен как дерзновенный. По мнению следствия, «он, Степан, в продерзости явился, что, едучи с помещиком своим из гостей, дерзновенно, сошед с коляски, кричал «караул» и сказал за собою Е. и. в. „слово и дело“». Дерзость состояла в том, что ему, Степану, «слыша… от дочери своей показанные слова, должно доносить, где надлежит, в то ж время (то есть сразу. — Е. А.) не крича «караула» и не сказывая за собою «слова и дела», потому, что к доношению препятствия и задержания ему не было». «А ежели, — утверждает Тайная канцелярия, — к доношению об оном было ему какое препятствие или от помещика ево задержание, то тогда б принужден был он «слово и дело» сказать, дабы слышанные им от дочери своей слова не могли быть уничтожены»22.
Иначе говоря, кричать «слово и дело» разрешалось лишь в том случае, если не было возможности донести, как должно и где надлежит. Поощрялся донос «нешумный», бюрократический, шедший «по начальству».
Впрочем, не будем преувеличивать строгость сыска к форме доноса. Так, в 1733 году хотели было примерно наказать доносчика Гунбурова, публично донесшего на некоего Наумова в «небытии у присяги», ибо «доносить надлежало было ему просто, не сказывая за собою „И. в. слова“», но потом резонно постановили этого не делать, «дабы впредь о настоящих делах доносители имели большую к доношению ревность»23.
Нужно подчеркнуть еще, что категорически запрещалось передавать кому-либо, кроме власть имущих, содержание «непристойных слов». В 1732 году приказчик Дмитриев был бит плетьми за то, что «помещице своей в письме своем… написал, что означенные крестьяне Никита Андреев, Степан Петров говорили некоторые непристойные слова, о которых словах и писать ему нельзя, а о тех словах объявить подлинно [надлежало]»24. В ряде случаев (если не сохранилось само следственное дело) мы так и не узнаем криминальной фразы, стоившей человеку жизни, — в протоколе часто встречаешь такую запись: «Сказал непристойные продерзостные слова, о чем явно по делу» или «…выговорил то слово прямо».
Отметим еще одну особенность извета. Он в обязательном порядке должен был быть персональным, то есть иметь автора-изветчика, который мог доверить содержание доноса властям. Писать, присылать или подбрасывать анонимные доносы — так называемые «подметные», то есть подброшенные, письма — категорически запрещалось. В XVII—ΧVIIΙ веках это считалось серьезным преступлением. Авторов стремились выявить и наказать, а само подметное письмо палач торжественно предавал сожжению. Этот не совсем понятный, по-видимому уходящий в древность, магический обряд очищения огнем, очевидно, символизировал уничтожение анонимного, то есть, возможно, происходящего от недоброго человека или вообще не от человека, зла.
Конечно, не стоит преувеличивать боязнь властей разбудить магические силы, скрываемые в анонимке. Несмотря на официальные заверения о том, что подметные письма являются преступлением, власти использовали сведения из них. В 1724 году на имя Петра было получено подметное письмо с обвинениями в адрес ряда высших сановников. Это письмо дошло до нас в целости и сохранности, с особыми пометами царя, а также характерной припиской: «Письмо подлинное, пришедшее в пакете к Ширяеву (лакею Петра I. — Е. А.) в ноябре месяце 1724-го году, вместо которого указал Е. и. в. положить в тот пакет белой бумаги столько ж и сожжено на площади явно, а сие письмо указано бeречь»25.
Тяжело приходилось и тому, кто подбирал подметное письмо на улице или на пороге своего дома. 8 июля 1732 года пытали новгородского жителя Дербушева по следующему, весьма типичному для тех времен, поводу: «Привесть в застенок и, подняв на дыбу, роспросить с пристрастием в том: пакет, о котором он, Дербушев, показал, что поднял ево в Новгороде в Волосовой улице на дороге, на котором написано «Для объявления ево полковнику Фондергагену», и оной пакет подлинно ль он, Дербушев, в означенном месте поднял или кто ему отдал, и буде кто ему тот пакет отдал, то о том пакете не приказывали ли ему, Дербушеву, чего и не роспечатывал ли того пакета он для смотрения, что в нем имеется, понеже по роспросу ево за истину того, чтоб тот пакет он поднял, принять неможно, потому что свидетельства на оное никакова он не объявил, а показал, что в то время, как тот пакет он, Дербушев, поднял и якобы других никого не было, того ради ис подлинной правды оного Дербушева в застенке, подняв на дыбу, с пристрастием и pocпросить»26.
Бедный Дербушев! Он думал, что делает благое дело, подбирая на улице, быть может оброненный кем-то, пакет, и забыл о том, что поднимать его одному, без свидетелей, ни в коем случае нельзя, и теперь эту очевидную для всех истину ему предстояло усвоить в застенке.
Итак, началом начал политического дела являлся извет — донос о совершённом или готовящемся государственном преступлении. Об истории доносов в России можно написать целую книгу — столь значительный и интересный материал хранится в отечественных архивах. Исследователи относят появление правовых норм о доносах (изветах) ко времени образования Московского государства, когда великие московские князья, стремясь сохранить переходивших к ним служилых людей, включали в «укрепленные грамоты» (крестоцеловальные записи) положения не только о верности вассала своему новому сюзерену, но и о его обязанности доносить о замыслах против господина: «…где какого лиходея государя своего взведаю или услышу, и мне то сказати своему государю великому князю безо всякие хитрости по сей укрепленной грамоте».
Соборное Уложение 1649 года включило уже традиционную норму о доносе, дополнив ее нормой о наказании за недонесение: «А буде кто, сведав или услыша на царьское величество в каких людех скоп и заговор или иной какой злой умысел, а… про то не известит… и его за то казнити смертию безо всякия пощады».
Особенностью действия закона об извете было то, что обязанность политического доноса лежала и на всех родственниках преступника. Именно этим и был страшен самовольный выезд за рубеж — дети, жены, родители, братья становились заложниками, их рассматривали как соучастников побега, которые не могли не знать о готовящемся государственном преступлении{5}. Всем им грозила смертная казнь; «А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся отец или мать, или братья родные и неродные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы, и вотчины у них были вопче — и про такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати, и род его про ту измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену ведали, и их казнити смертию же, и вотчины, и поместья их, и животы взяты на гocyдapя»27. Как мы узнаем чуть позже, у следователей было много способов «сыскать допряма» о государственной измене.