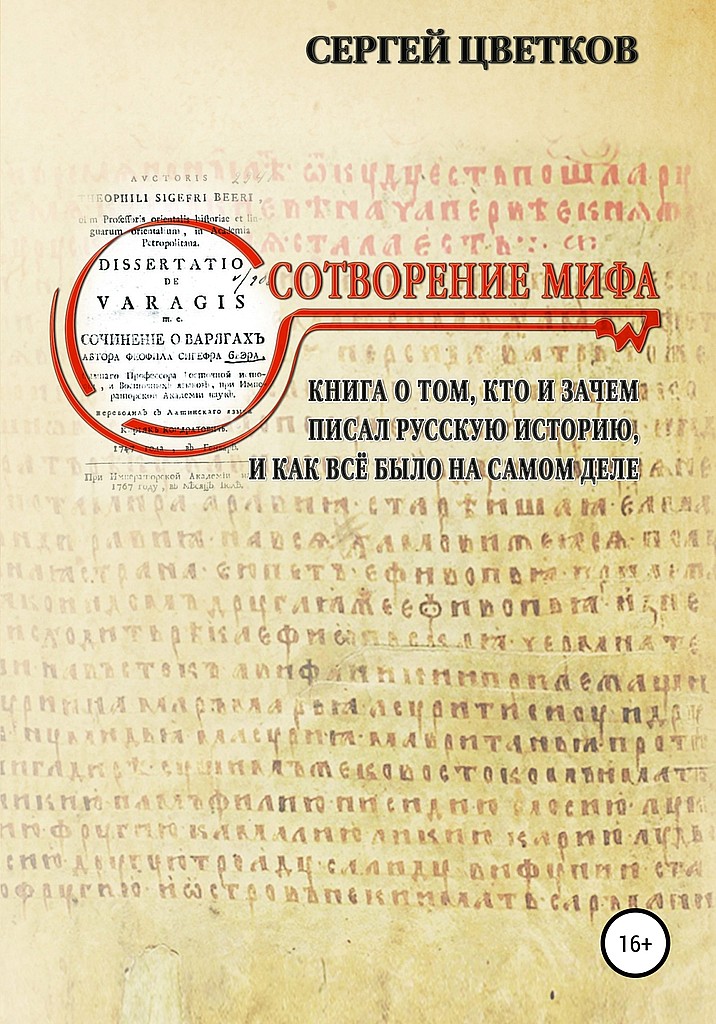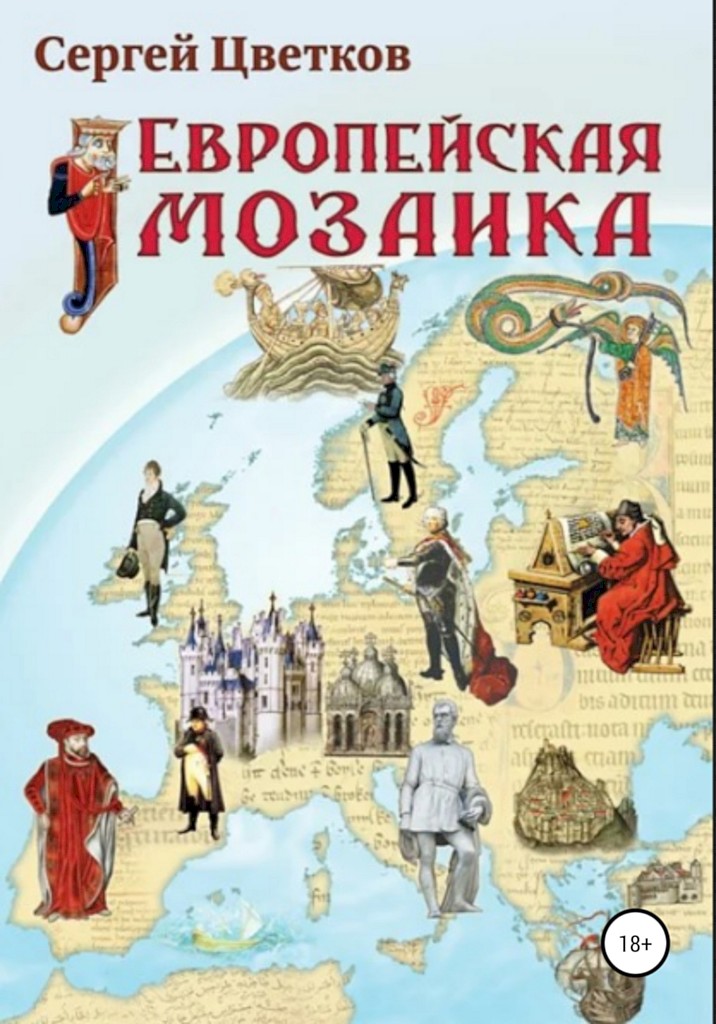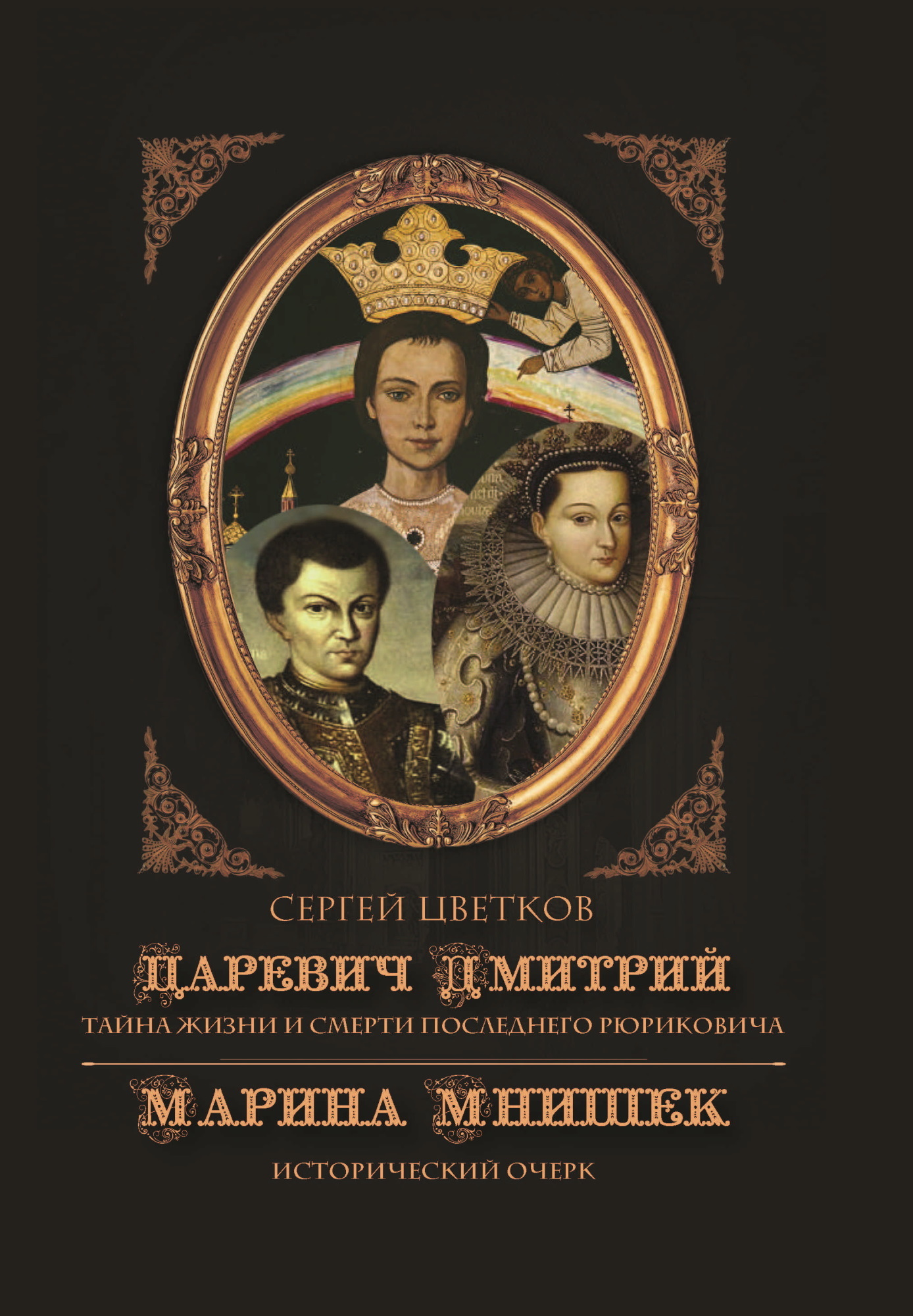впервые в средневековой литературе упоминаются народ «варанков» и «море Варанк» («Варяжское море»): «Море Варанк отделяется от Окружающего моря на севере [158] и простирается в южном направлении… Варанки — это народ на его берегу». Имеется в виду именно южный берег Балтики, так как система ориентации в географических сочинениях Средневековья всегда строится «от ближнего — к дальнему»: сначала должен быть упомянут «этот» (ближний) берег, потом — «тот» (дальний).
На рубеже X–XI веков в рядах варангов появляются первые скандинавы.
Исландская «Сага о людях из Лаксдаля» рассказывает о Болли Боллисоне, который однажды «отправился в дальние страны и не прерывал своего путешествия, пока не прибыл в Миклагард [Константинополь]». Этот персонаж саги — реальное историческое лицо. Наиболее вероятная дата его прибытия в ромейскую столицу — весна 1027 года. «Недолго пробыл он там, — говорится далее в саге, — как вступил в дружину вэрингов. Мы никогда не слышали раньше, чтобы какой-нибудь норвежец или исландец до Болли, сына Болли, стал дружинником короля Миклагарда. Он провёл в Миклагарде очень много лет и выказывал себя во всех испытаниях как самый отважный воин и всегда был первым среди других. Вэринги очень ценили Болли, пока он был в Миклагарде».
Таким образом, в исландских преданиях Болли числился первым норманном, принятым в корпус варангов. Этим сведениями противоречит «Сага о Вига-Стире», которая повествует о Гесте и Торстейне — норвежских викингах, попавших в Константинополь и вступивших в дружину вэрингов. Историки датируют эти события примерно 1011 годом. «Сага о Ньяле», в свою очередь, рассказывает о некоем Кольскегге, который «крестился в Дании, но там ему пришлось не по душе, и он отправился на восток, в Гардарики, и пробыл там зиму. Оттуда он поехал в Миклагард и вступил там в варяжскую дружину. Последнее, что о нём слышали, было, что он там женился, был предводителем варяжской дружины и оставался там до самой смерти». По косвенным признакам поездку Кольскегга в Константинополь можно приурочить к 990-м годам — и это самое раннее известие о пребывании скандинавов в корпусе варангов. Однако «Сага о Ньяле» написана позднее других «саг об исландцах» и невозможно сказать, насколько её сведения в данном случае соответствуют действительности.
Массовый наплыв норманнов в Константинополь связан с именем Харальда Хардрада (Сурового). Будущий норвежский король и зять Ярослава Мудрого [159] привёл с собой в 1034 году «пятьсот отважных воинов», с которыми и влился в дружину варангов, как свидетельствует византийский писатель Кекавмен (около 1020 — после 1081). В дальнейшем Харальд не поладил с варангами. Виса исландского скальда XI века Вальгарда повествует о кровавой схватке Харальда с вэрингами:
…Ты так повернул дело, Что меньше стало вэрингов.
Несколько десятилетий словечко «варанг» в Константинополе остаётся достоянием местного «арго». Но во второй половине XI века чиновники императорской канцелярии начинают употреблять его в хрисовулах — официальных указах от имени василевсов, которые освобождали дома, поместья, монастыри от постоя наёмных отрядов: так, хрисовул 1060 года перечисляет «варангов, рос, саракинов, франков»; хрисовул 1075 года — «рос, варангов, кульпингов [160], франков, булгар или саракинов» и т. д.
К этому времени имя варангов переносится на жителей Британских островов — англо-саксов и «секироносных бриттов». Первых к эмиграции побуждало норманнское завоевание Англии, обернувшееся страшными бедствиями для местного населения, вторых — ещё и религиозные гонения (в 1085 году папа Григорий VII упразднил самостоятельность бритто-ирландской церкви, имевшей ряд общих черт с православием: допущение брака для священников, причащение мирян под двумя видами (вина и хлеба), отрицание чистилища и т. д.). Византийские авторы XII столетия, которые введут термин «варанг» в «высокую» литературу, уже совершенно позабудут о славянской принадлежности первых варангов.
Зато арабоязычные писатели, получившие от ромеев сведения о «варанках» ещё в ту пору, когда под ними подразумевались поморские славяне, закрепят эти знания в качестве устойчивой литературной традиции. Продолжатели и комментаторы Бируни в следующих столетиях будут сажать «варанков» на южный берег «моря Варанк» или на «север страны славян», то есть в Славянское Поморье. Особенно интересен идиоматизм, употреблённый в «Выборке времени о диковинах суши и моря» Шамсуддина ад-Димашки (1256–1327). В северной области Окружающего океана, говорится там, «находится великий залив, который называется морем Варанк… Варанки же есть непонятно говорящий народ и не понимающий ни слова, если им говорят другие… Они суть славяне славян [важнейшие, знаменитейшие из славян]». Последнее выражение бытовало именно в славянском Поморье. Латинская надпись на надгробии поморского герцога Богуслава (ум. 24 февраля 1309 года) называет его Slavorum Slavus dux, то есть «величайший славянский герцог».
На Руси слово «варанг» примет форму «варяг». В конце XI века, когда в Киево-Печерском монастыре начнётся работа над «Повестью временных лет», его первоначальное значение будет уже забыто. Для летописца «варяг» — это любой выходец из «заморья» (Балтийского региона). Смутное воспоминание о славянстве первых варягов сохранится лишь в географических представлениях: в летописном списке народов, происходящих от «Иафетова колена», варяги помещены на южное побережье Балтики, к западу от ляхов и пруссов [161], а новгородцы в договорной грамоте с Готским берегом именуют варягами «немцев» — ганзейских купцов из бывшего вагрийского Любека: следствие активного онемечивания земель вендов. Но попытка летописца вписать «русь» в историческую реальность «варяжской» Балтики последних десятилетий XI века («ибо звались те варяги русь, яко другие зовутся свеи, другие же урманы, ангяне, иные готы») породит пресловутый «варяжский вопрос» — этот многовековой мираж российской историографии.
Часть пятая
Гёттингенский профессор
Воздух Гёттингена быстро выветривает из головы Шлёцера воспоминания о служебных неприятностях и дорожных трудностях. Остаток 1767 года он проводит в напряжённом труде. На его рабочем столе растёт кипа бумаг. В 1768 году рукопись получает название «Probe russischer Annalen» («Опыт изучения русских летописей», введение и первая часть) и отправляется в типографию. Шлёцер сам оплачивает печать тиража.
Во введении он рисует себя человеком, срывающим перед европейской публикой завесу, которая скрывала целый мир. «Древняя русская история, — восклицает Шлёцер, — какое необъятное понятие! Я почти теряюсь в его