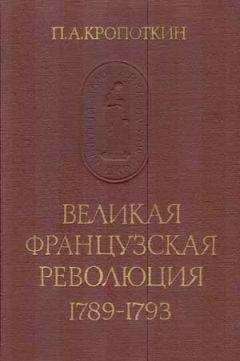Многие из них сплотились вокруг Парижской коммуны, потому что она остается проникнутой революционным духом; другие принадлежат к Клубу кордельеров; некоторые бывают в Клубе якобинцев. Но настоящее их место — это секция, в особенности улица. В Конвенте их можно видеть на трибунах, откуда они руководят дебатами. Их способ действия — это давление народного мнения, но не «общественного мнения» буржуазии. Их настоящее оружие — восстание. Посредством этого оружия они влияют на депутатов и на исполнительную власть.
И когда нужно напрячь все силы, воспламенить народ и идти вместе с ним против Тюильри и против германского вторжения, именно они подготовляют нападение и затем сражаются в рядах народа.
В тот день, когда революционный порыв народа истощится, они вернутся в неизвестность. И только желчные памфлеты их противников да кое-где уцелевшие протоколы секций дают нам теперь возможность оценить, какую громадную революционную работу они совершили.
Что касается их взглядов, то они ясны и определенны.
Республика? Конечно! Равенство перед законом? Да, конечно! Но это еще не все, далеко не все. Добиваться путем политической свободы свободы экономической, как советуют буржуа? Они знают, что это невозможно.
Они хотят поэтому самой экономической свободы. Земля для всех — это называлось тогда «аграрным законом». Экономическое равенство — это называлось на языке того времени «уравнением состояний».
Но послушаем, что говорит Бриссо.
«Именно они, — пишет он, — разделили общество на два класса: имущий и неимущий, класс санкюлотов и класс собственников, которых они возбудили друг против друга».
«Они, — продолжает Бриссо, — под видом секций постоянно надоедают Конвенту петициями, в которых требуют установления максимальной цены на зерновой хлеб».
Они посылают «эмиссаров, которые проповедуют повсюду войну санкюлотов против собственников». Они проповедуют «необходимость уравнять состояния».
Это они организовали «петицию 200 тыс. человек, объявивших, что восстанут, если не будет установлена такса на хлеб»; это они вызывали восстания по всей Франции.
Итак, вот в чем их преступления: они делили нацию на два класса, имущий и неимущий; они возбуждали один класс против другого; они требовали хлеба, прежде всего хлеба для тех, кто работает!
Еще бы не преступники! Однако кто же из ученых социалистов XIX в. выдумал что-нибудь лучшее, чем требование наших предков 1793 г.? «Хлеба для всех»! Теперь только слов гораздо больше, и меньше дела.
Что касается способов, какими они проводили свои идеи в жизнь, то вот они: «Многочисленность преступлений, — говорит Бриссо, — вызывается безнаказанностью; безнаказанность — парализованностью судов; анархисты же содействуют этой безнаказанности и парализуют все суды то угрозами, то доносами и обвинениями в аристократизме».
«Постоянные и повсеместные покушения на собственность и на личную безопасность, парижские анархисты каждый день подают пример этого; и их специальные эмиссары, а также и те, которые украшены титулом эмиссаров Конвента, проповедуют повсюду это нарушение прав человека».
Затем Бриссо говорит о «вечных протестах анархистов против собственников и купцов, которых они называют спекуляторами»; о том, что «на собственников они постоянно направляют оружие разбойников»; о ненависти анархистов ко всякому государственному чиновнику: «Раз только человек занимает какую-нибудь должность, он становится ненавистным для анархистов; он кажется им виновным». И не даром, прибавим мы.
Но великолепнее всего те места, где Бриссо перечисляет благодеяния «порядка». Нужно прочитать их, чтобы понять, что дала бы французскому народу жирондистская буржуазия, если бы «анархисты» не повели революцию немного дальше.
«Посмотрите, — говорит Бриссо, — на те департаменты, которые сумели обуздать ярость этих людей; посмотрите хотя бы на департамент Жиронды. Там все время царил порядок; народ там подчинился закону, хотя платит до 10 су (больше 20 копеек) за фунт хлеба… А все потому, что в этом департаменте проповедники аграрного закона были изгнаны и граждане заколотили клуб (Клуб якобинцев), где проповедовали этот закон… и т. д.»
И это писалось через два месяца после 10 августа, когда даже самым слепым было очевидно, что если бы народ повсюду во Франции «подчинился закону, хотя платит по 10 су за фунт хлеба», то революции вовсе не было бы, и королевская власть, против которой якобы боролся Бриссо, а также и феодализм продолжали бы царить, может быть, еще целое столетие, как в России[220].
Нужно прочитать памфлеты Бриссо, чтобы понять, что подготовляли для Франции буржуа того времени и что подготовляют и теперь бриссотинцы XX в повсюду, где может вспыхнуть революция.
«Беспорядки в департаментах Эр, Орн и других, — говорит Бриссо, — были подготовлены враждой против богачей, против спекуляторов возмутительными речами насчет необходимости добиться вооруженной рукой таксы на хлеб и другие жизненные припасы».
Затем Бриссо рассказывает относительно Орлеана: «Этот город с самого начала революции пользовался спокойствием, которого не могли нарушить даже беспорядки, вспыхнувшие в других местах вследствие недорода хлеба, хотя в Орлеане и находились большие хлебные склады… Такая гармония между бедными и богатыми не согласовалась с принципами анархии; и вот один из этих людей, которых порядок приводит в отчаяние и для которых смута — единственная цель, спешит нарушить это счастливое согласие, возбуждая санкюлотов против собственников».
«Она же, все та же анархия, — восклицает Бриссо все в том же памфлете, — создала революционную власть в войске». «Кто усомнится теперь, — говорит он, — в страшном вреде, который принесла нашему войску анархическая доктрина, стремящаяся под сенью равенства в правах установить всемирное и фактическое равенство, которое постольку же является бичом для общества, поскольку первое составляет его основу? Анархическая доктрина хочет уравнять талант и невежество, добродетели и пороки, места, жалования, заслуги».
Этого-то бриссотинцы никогда и не могли простить анархистам: равенство в правах, еще куда ни шло, лишь бы оно никогда не стало равенством на деле. Бриссо поэтому с величайшим негодованием говорит о землекопах парижского лагеря, потребовавших однажды, чтобы плата, которую получают депутаты, была уравнена с той, которую получают они!! Подумать только! Бриссо и какой-нибудь землекоп поставлены на равную ногу! Не в правах только, а фактически!. Еще бы не злодеи эти анархисты!
Каким же путем удалось, однако, анархистам достигнуть такого влияния, что они господствуют даже в страшном Конвенте и диктуют ему его решения?
Бриссо объясняет это в своих памфлетах. Галереи Конвента, куда пускают посторонних, парижский народ, и парижская Коммуна являются, говорит он, хозяевами и оказывают давление на Конвент всякий раз, когда ему предстоит принять какую-нибудь революционную меру.
Вначале, рассказывает Бриссо, Конвент вел себя очень благоразумно. «Вы увидите тут, — говорит он, — большинство Конвента, чистое, здоровое, верное принципам, постоянно обращающее свои взоры к закону». Все предложения, клонящиеся к унижению, к уничтожению «нарушителей порядка», принимались тогда «почти единогласно».
Можно себе представить, каких революционных результатов можно было ожидать от этих представителей, постоянно обращавших свои взоры к закону, монархическому и феодальному. К счастью, в дело вмешались «анархисты». Но они поняли, что их место не в Конвенте, среди представителей, а на улице; что если по временам они явятся в Конвент, то не для того, чтобы вести переговоры с правыми, или с «болотными лягушками», а для того, чтобы требовать то, что им нужно, с трибун, открытых для публики, или же вместе с народной толпой, когда она врывается в Конвент и выражает свою волю.
Таким образом, мало-помалу «разбойники (Бриссо имеет в виду „анархистов“) дерзко подняли голову. Из обвиняемых они превратились в обвинителей, из немых зрителей наших прений — в вершителей их судеб». «Ведь у нас идет революция!»— таков их обычный ответ.
И вот приходится признать, что те, кого Бриссо называл «анархистами», обнаружили, однако, большую дальновидность и большую политическую мудрость, чем разношерстная толпа членов Конвента, претендовавшая на управление Францией. Чем была бы теперь Франция, если бы ее революция кончилась торжеством бриссотинцев, не уничтожив феодального строя и не возвратив сельским общинам отнятые у них королями и дворянами земли?