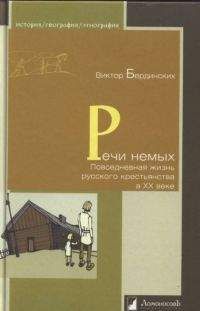Долго помнили крестьяне антибольшевистские частушки времен гражданской войны, 20-х годов. На Вятке записали, например, такие частушки:
Едет Ленин на свинье.
Троцкий на собаке.
Испугалися жиды —
Думали, казаки.
* * *
Сидит Ленин на дубу.
Гложет конскую ногу.
Фу, какая гадина
Русская говядина!
Частушки были чаще всего привязаны к каким-то конкретным событиям: «Была какая-то про Сталина. Варюху за нее еще отец выпорол, не вспомнить. Наверное, что-то так:
Нынче Кирова убили.
До рублевки хлеб добили.
Если Сталина убьют,
До копейки хлеб добьют.
Любопытно, что никакой фактической информации о жизни и деятельности вождя в народе не было. Поэтому в своем принятии или непринятии обожествления вождя рассказчики руководствуются просто последствиями политики тех лет.
Характерно при этом утверждение, что кто такой Сталин — они не знают. Очень критичен Павел Алексеевич Колотов (1909): «Сталина я не знаю. Но мы его не любили. Раскулачивали неправильно, работали мы в колхозах, на лесоповале задаром. Обманывал он людей».
Меня поразило в рассказе Анфисы Васильевны Лузяниной (1907), что люди не могли громко сказать, даже на собрании, о смерти вождя. Язык не поворачивался. Это был, конечно. Великий Страх: «Сталин был строгий, много расстреливал, особенно во время войны. Раньше боялись лишнего слова сказать. Пал Никанорыч у нас был в селе доносчик, чуть-чего — в сельсовет донесет или на собрании расскажет. Его тоже боялись. Сейчас что говорят — в то время бы не жили. Начальства боялись. Когда Сталин умер, собрали собрание и всем сообщили почему-то шепотом: "Сталин умер! Сталин умер!" Его даже мертвого боялись. Некоторые плакали, не знали, что же дальше будет, как жизнь дальше пойдет. Местной власти тоже боялись. С властями, председателем никто не ругался, не спорил, так как грозились из колхоза выбросить. А документа не давали, в город ехать нельзя. И без земли жить невозможно. Все терпели и жили как жилось».
Отцы и дети (поколения 1900 и 1920-х годов) в той ситуации не всегда понимали друг друга. Хотя отцы знали, что и в своей семье надо держать язык за зубами. «Понравилась мне своей яркостью красок картина «Утро», размером 60x30 см. Во весь рост, в парадном маршальском костюме, при всех наградах Сталин, а у ног яркое солнце всходит. Развертываю я эту картину, а отец с полатей: "Смотри-ка, Сталина выше солнца подняли. При царе Николае такого не было". А ведь тогда еще мое поколение ему так верило» (А.В. Грязин, 1926).
Старики были, конечно, более критичны. В своих суждениях они шли от здравого смысла. «Отношение к Сталину деревенских мужиков было ироническое. Ну, вступать в колхоз? Так, что ли? Когда мне, подростку, доверили, как самому глазастому в деревне, прочитать в районной газете о расстрелянной троцкистско-бухаринской группе, как врагов народа, мужики выслушивали это сообщение с огромным вниманием, ухмыляясь и иронизируя, что, дескать, эти начальники и воевали за советскую власть. В этой далекой-далекой Москве что-то не так. Но и не доверять Сталину ни у кого не было оснований. Был вождь народа, знали. Отношение к Сталину было как к человеку, которого нельзя ослушаться. Все у него категорично, просто, поверхностно. Он приказывает, мы выполняем. Кто его ослушался, тот против его. Я верил, что врагов у нас, если поискать, найдется, но сколько ни присматривался к людям — так ни одного врага и не увидел» (Г.А. Сычев, 1920).
Для поколения 20-х годов XX съезд партии был колоссальным шоком. Часть людей просто отринули от себя его решения, оставшись убежденными сталинистами, часть людей пережила тяжелейшую ломку мировоззрения. Чем больше была вера в вождя, тем тяжелее люди переносили крах этой веры.
«Люди верили в Бога, а мы в Сталина! Везде были его портреты. Мы с этим именем росли. Он был живая икона. Нельзя сказать, что разоблачение Сталина было для меня разочарованием. Это был крах! Душа переполнилась гневом. Я даже выкинула медаль и уничтожила удостоверение!» (Ф.Ф. Губанова, 1919).
Во многих наивных и бесхитростных рассказах в отношении к Сталину много здравого смысла, спокойной рассудительности. «Как к Сталину относились? Мы его не видели. Ну, правитель и правитель. Война ведь была. Он ей руководил. Но бывало, что рассказывал народ, так слышно ведь, как он войну вел. Ведь когда трудно-то стало будто бы он кричал: "Братья, сестры, помогите!" По радио што ли. Помер. Так что о нем думать-то сейчас? Прожил век. Помер» (А.В. Сметанина, 1914).
Люди боялись рассуждать даже сами с собой. Критика Сталина замирала у них не на устах, а в мыслях. Матрена Андреевна Кудрявцева (1904) делится своими мыслями: «Правительство было тогда Бог и царь. За Богов их считали. Когда Ленин умер, море слез было. Когда Сталин умер, я тоже плакала, узнала от соседки и бегу домой рассказать, а сама реву в голос. Говорили чего? Жалели их, верили, любили. Вот когда репрессии были, поговаривали, что что-то тут не так, но больше молчали, а верили или не верили, кто знает, не принято было про то вслух говорить».
Многие крестьяне и сегодня сохраняют в глубине души доверие к вождю, помнят, что вера и надежда на Сталина помогла им выстоять в войну. Евдокия Федоровна Филимонова (1914): «Как я отношусь к Сталину? Мы ведь тогда не думали, что кто-то может, окромя его, быть. Ему и верили, и считали, что так и должно быть. Тяжело было, так всем тяжело. А что сейчас говорят, так вроде и не всему верю. Не мог он один-то натворить так много. Вот и получилось — он сам по себе, мы сами по себе. Но в войну-то все только на него и надеялись, ему только и верили. Вроде как он сам и победил».
Другие только сейчас наконец поверили своим внутренним антипатиям к нему, получили возможность об этом говорить вслух: «Как отношусь к Сталину? Не знаю. Только разболок он всех. В самое голодное время был, да в войну. Отбирал коров, посылал продовольственный отряд. У всех забирали хлеб. Мы ревели, жить-то совсем нечем. Он, говорят, какой-то нерусский был. При Сталине жили очень плохо. Его-то уж никто не похвалит. Всех раздел и разул. Нашто теперь Сталина вспоминать? Все живут хорошо» (Е.К. Просвирякова, 1908).
Многим открыло глаза на мир участие в Великой Отечественной войне. «Помню, целые ряды заключенных во время коллективизации шли по нашей улице в тюрьму. На войне мы, конечно, кричали: "За Родину! За Сталина!", но все равно доверия не было, потому что мы войну вначале чуть не проиграли. Сейчас я отношусь к Сталину так, как все. Таких бы паразитов не было бы больше над русским народом!» (А. В. Клестов, 1918).
Глава 6. ОБ АРЕСТАХ
Атмосфера 30-40-х годов непредставима без ночных страхов, полночных арестов и обысков, шушуканий по углам, опасливых разговоров в надежном месте с надежными людьми полушепотом.
Дело ведь даже не в том — сколько миллионов было арестовано: дело было в том, что каждый человек мог быть арестован, независимо от заслуг и должностей. Дело было и в том, что каждый знал, что может быть арестован. Страх уравнял всех. Ощущение, что ты все время на крючке, под колпаком, острее было, конечно в городах. Но и в деревнях бывали случаи, когда машина подъезжала прямо в поле и забирала кого-то из работающих крестьян. Поводом к аресту чаще всего служило слово. Слово неосторожное, неправильно понятое или не так истолкованное. Надо было следить за своими мыслями. «В годы репрессий боялись обронить какое-то слово, боялись друг друга на работе, боялись соседей. Каждое слово взвешивалось. Поэтому, кто приходил из лагеря живым, молчали до самой смерти. Страшные были годы! Дай Бог им никогда не повториться».
Деление по классовому принципу на «чистых» и «нечистых» началось сразу после революции. В 20-е годы оно было законодательно распространено на школу, институты. Люди обрекались на гонения по факту, так сказать, своего происхождения. Атмосфера внутренней борьбы, чисток охватила все и вся к началу 30-х годов. «В 1928 г. началась чистка среди учащихся и учителей школ от "чуждых элементов". В 1929 г. поступила в Вятский пединститут. Чистка "чуждых" и здесь была в самом разгаре. За один 1929/30 учебный год было исключено 250 человек учащихся и многие преподаватели и профессора. Оставляли детей рабочих. Отменены были экзамены, введено бригадное обучение и бригадные зачеты по 6 человек в бригаде. Успеваемость падала. Часто вывешенные объявления внутри института пестрели грамматическими ошибками, которые кто-нибудь ночью подчеркивал красным карандашом» (А.И. Жуйкова, 1904).