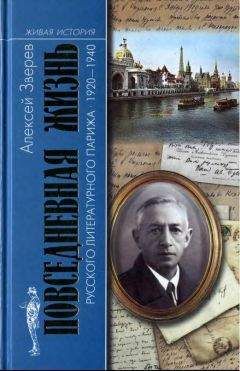Много лет спустя, когда посмертно были изданы книги, где виден весь путь Иванова, Вейдле написал статью, в которой о нем говорились, быть может, самые верные слова. Вот они: «Поэты в нашем веке чаще всего намечают путь, который продолжить невозможно… То же следует и о стихах Георгия Иванова сказать… Никуда в отчаянии дальше не пойдешь, но и к поэзии этой — как к поэзии — прибавить нечего. Как неотразимо! Как пронзительно! Гибель поэта неразрывна с его торжеством».
* * *
Петербургские современники запомнили Иванова другим, без всегдашней его подавленности и настороженности, без этой изводящей тоски, которая, вопреки самим им, конечно, ощущаемому поэтическому торжеству, была его будничным состоянием. Вот свидетельство Иоганнеса фон Гюнтера, который в начале 10-х годов был сотрудником «Аполлона», человеком, входившим в круг Гумилева: «Из его учеников наибольшее впечатление на меня произвел Георгий Иванов. Всегда подчеркнуто хорошо одетый, с головой, как камея римского императора, он был воплощением протеста против всякого штукарства в стиле и форме. Его твердая линия в искусстве и склонность Мандельштама к французскому классицизму представлялись мне гарантией дальнейшего процветания русской поэзии».
Твердая линия осталась и в эмигрантские годы, однако сам Иванов сильно переменился. Озлобленное перо Яновского, много раз видевшего Иванова на Монпарнасе и, вопреки «нравственному уродству», которое ему приписывается в «Полях Елисейских», все-таки признавшего, что это был самый умный человек из всех, кто посещал «Ротонду» и «Доминик», набрасывает выразительный портрет: «Худое, синее или серое лицо утопленника с мертвыми раскрытыми глазами, горбатый нос, отвисшая красная нижняя губа. Подчеркнуто подобранный, сухой, побритый, с неизменным стеком, котелком и мундштуком для папиросы. Кривая, холодная, циничная усмешка, очень умная и как бы доверительная: исключительно для вас!.. Существо его, насквозь эгоистичное, было совершенно безразлично к любому визави».
Неестественно красный рот Иванова упомянут и в мемуарах Ирины Одоевцевой, его спутницы на протяжении почти сорока лет. Мемуары пестрят натяжками и ошибками памяти, но во многих отношениях они все равно бесценны.
Рижанка Ирина Гейнике, ставшая Одоевцевой по чистому стечению обстоятельств, встретилась с Ивановым весной 1920 года, а осенью 1922-го, под предлогом командировки для пополнения репертуара петроградских театров, он уехал в Берлин, она к отцу в Ригу. Дальше совместный путь вел через Берлин в Париж. Оба думали, что это не навсегда, только на год-другой, принимали заказы на подарки, которые привезут, возвращаясь. Отрезвил их мрачный совет Сологуба: оставьте эти химеры, укореняйтесь в Европе надолго и лучше всего переходите с русского языка на французский — с Россией для вас все позади.
До этого была какая-то странная, но поэтичная жизнь. Была большая пустующая квартира на Почтамтской, где поселились втроем с Адамовичем и пили по утрам чай за нескончаемыми литературными разговорами. Были в замерзающем городе творческие диспуты, доживающая свой век «Бродячая собака», организованное Горьким издательство «Всемирная литература», для которого два Жоржа — Иванов и Адамович — километрами переводили то Вольтера, то Байрона, то Колриджа. Эта пора вспомнилась Иванову, когда под конец жизни он написал стихотворение, посвященное «И. О.»:
Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.
Пусть, как ребенок, на твоих руках
Лежат цветы, рожденные весной.
Так беззаботна ты и так грустна.
Как музыка, ты можешь все простить.
Ты так же беззаботна, как весна,
И, как весна, не можешь не грустить.
Свою беззаботность Одоевцева сохранила до глубокой старости. Иванову беззаботность не была присуща никогда. Он не любил говорить о своем детстве, об отце, покончившем с собой после того, как сгорело вместе со всеми службами и лошадьми поместье в Студенках на польской границе, — похоже, подожгли крестьяне. Редко вспоминал о кадетском корпусе, где прошла его петербургская ранняя юность, никогда — о своей первой жене, француженке, соученице сестры Адамовича Татьяны.
Когда они с Одоевцевой познакомились, он уже снискал некоторую поэтическую репутацию: вышло три книги, Иванов был приглашен в Цех поэтов, даже считался правой рукой Гумилева, хотя тот оценивал стихи своего последователя довольно кисло. Жизни вне России Иванов тогда себе не представлял. Случилось так, что он прожил на чужбине тридцать шесть лет и умер в приюте для престарелых на юге Франции в Йере.
Одоевцева дает понять, что его душевная жизнь с каждым годом внушала ей все большую тревогу. О том же самом пишут часто с ним общавшиеся Терапиано, Померанцев: слова «озлобленность» и «обреченность» в их воспоминаниях становятся ожидаемыми. Да и не мог создать «Распад атома» человек, который относится к жизни легко и настолько не подвержен унынию, как Одоевцева. Терапиано впрямую утверждал, что типичные свойства поэзии «парижской ноты», ее «сомнение, ирония, трагедия „пробудившегося человека“, то есть смотрящего на себя и на весь внешний мир без всяких иллюзий», идут от Иванова. Однако спешил уточнить: есть некая черта, отделяющая поэта, который наиболее полно воплотил этот комплекс настроений, от Георгия Иванова, каким его знали. Все-таки «Отплытие на остров Цитеру» гораздо больше, чем просто человеческий документ, как и стихи, написанные после войны и вошедшие в цикл, провоцирующе озаглавленный «Дневник». Но не зря ведь книгу, вышедшую в 1950-м, последнюю свою книгу, Иванов назвал «Портрет без сходства». Да, поэтическая автобиография или исповедь, но разве она то же самое, что протокольный отчет о действительно пережитом?
Полного сходства, конечно, никогда и не было. Портрет — создание художника, а не снимок, сделанный фотоавтоматом. Терапиано писал о последних стихах Иванова, что «он действительно ведет дневник — страшно сказать — дневник умирающего… Он по-прежнему помнит о бессмыслице „мировой чепухи“ и обо всех тупиках современности, и все же в его строках чувствуется такая напряженная любовь ко всему, что он оставляет, и такая в то же время спокойная и не ропщущая отрешенность, что от многих таких простых строчек просто дух захватывает». А Померанцев, восстанавливая в памяти этот же черный период биографии Иванова, говорит только о том, как он страдал от равнодушия публики, которой просто не осталось, — прежних его поклонников уже не было во Франции, а то и просто не было. От унижений, причиняемых необходимостью клянчить у меценатов, от того, что на его последний поэтический вечер в 1956 году, в зал Русской консерватории, не пришло и сорока человек. От старости и болезни: из-за нее он с трудом передвигался.
Когда-то все было иначе. Пока не сгинул рижский доходный дом, а с ним и регулярные переводы от дяди Одоевцевой, Ивановы жили почти на широкую ногу. Оба много писали и печатались, он к тому же занял кресло председателя в «Зеленой лампе», посещал заседания «Круга», сделался одним из вдохновителей «Чисел». Выпущенные им в 1928-м мемуары «Петербургские зимы» очень нашумели, кого-то побудив говорить о блестящей книге, у других вызвав раздражение, вылившееся в упреки из-за фальсификации. Возмутился Маковский: для чего эти романтические выдумки про зимние ночи в царскосельском парке, где компания поэтов блуждает по колено в снегу, чтобы отыскать скамейку, которую любил Анненский, и где Ахматова выслушивает очередное любовное признание? Иванов пробовал оправдаться, говоря о своей неискоренимой страсти к фантазии. Нашел себе союзника, которым неожиданно стал Святополк-Мирский: он заявил, что это не воспоминания, а «полугрезы», чарующие стилистикой «призрачного импрессионизма».
Но мемуары не поэзия, и хотя бы приблизительной точности от них ждут с достаточным основанием. А у Иванова получились тоже своего рода «портреты без сходства», и не узнавшие себя на этих портретах испытывали негодование. Он написал, что стихи Мандельштама, обращенные к Цветаевой, будто бы написаны какой-то зубной врачихе, с которой у поэта случился бурный роман в Коктебеле, и последовала испепеляющая цветаевская «История одного посвящения» (правда, при ее жизни так и не напечатанная). Когда мемуарная проза Иванова — «Петербургские зимы» и еще одна книга, «Китайские тени», — нелегальными путями попали в СССР, взорвалась Ахматова: что за вранье! И Надежда Мандельштам судила о них не менее резко.
По-своему они были правы: нельзя искажать факты до такой степени. Однако с теми законами, по которым построен рассказ Иванова, при этом не считались. А он сам говорил, что у него получаются не воспоминания, но полубеллетристические фельетоны, иначе не умеет. Потому что в его сознании «прошлое ускользает, меняется, путается» и остается только какой-то неясный звук, расплывающийся образ, меркнущий цвет времени. Того времени, когда все понимали, что «кончится это страшно», но гнали прочь свои тяжелые предчувствия, словно так и будет продолжаться до скончания века — «маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи и полуночные сборища» со все теми же самыми утомительными разговорами в декадентском духе.