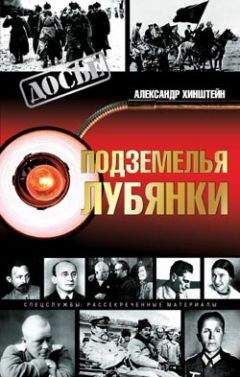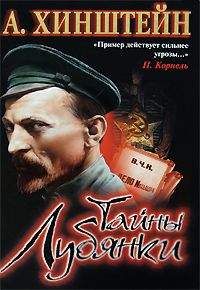И пока музыканты строились, маршал отвел Агапкина в сторону.
– Что намерены играть?
Василий Иванович протянул ему репертуар: 10 заранее подобранных маршей. Бывший конник внимательно прочитал, шевеля губами, точно проговаривая названия про себя. Наконец сказал:
– Оставьте вот эти… Остальные не надо… Выбор Буденного пал на четыре марша. Была среди них и «Славянка»…
… Парад проходил точно по намеченному плану. Под звуки маршей шагали по брусчатке колонны бойцов, громыхали расчехленные пушки. Приветственно махали с трибуны мавзолея вожди народа и лично Он – товарищ Сталин, в шапке с опущенными ушами. Седой снег падал на башни Кремля, на купола церквей, и была во всем этом великолепии такая торжественность, что даже холодно становилось внутри. И никто и не заметил, как едва не случился конфуз.
По сценарию, после прохождения войск, Агапкин должен был увести оркестр назад, к теремам ГУМа, чтобы освободить дорогу кавалерии, но…
«Пора мне сходить с подставки, – напишет он потом в своих воспоминаниях. – Хотел было сделать первый шаг, а ноги не идут. Сапоги примерзли к помосту. Я попытался шагнуть более решительно, но подставка затряслась и пошатнулась. Что делать? Я не могу даже выговорить слова, так как губы мои замерзли, не шевелятся».
На счастье один из подчиненных – полковой капельмейстер Стейскал – увидел гримасы на агапкинском лице. Подбежал, подставил плечо, подал руку. Елееле Василий Иванович спустился на землю. Ноги – точно два протеза…
И вот уже летит над Красной площадью «Славянка». Мог ли в далеком 1912 году представить он, что творению его уготована такая долгая жизнь.
Это, пожалуй, единственный случай в истории, когда один и тот же марш стал пусть и неофициальным, но общепризнанным гимном сразу двух величайших войн…
…Июнь 45-го. Эпохальный Парад Победы. И снова Агапкин стоит на главной площади страны.
Такого размаха Красная площадь еще не видела. 1400 музыкантов играют для победителей. Дирижирует сводным оркестром генерал Чернецкий[179] – его старый друг и соратник. В многоголосии звучит и оркестр Агапкина.
И в этом есть какая-то внутренняя, всепобеждающая логика: в ноябре 41-го именно он провожал бойцов на передовую. И кому, как не Агапкину, встречать теперь победителей…
Остались за спиной четыре военных года. Это время Агапкин провел в Новосибирске: капельмейстером Военно-технического училища им. Менжинского[180].
В Москву он вернулся осенью 43-го. Вернулся в прямом смысле слова к пепелищу. Дом его в Большом Кисельном разбомбило. Многие из музыкантов – тех, с кем сыгрался, сроднился за эти годы – погибли. Оркестр приходится набирать заново. Но уже летом 44-го Агапкин снова начинает играть в «Эрмитаже».
Это было последнее лето войны. Город постепенно залечивал раны, прихорашивался, и все более становился похожим на столицу. Вернулись на московские улицы мороженщики. Один за другим открывались кафе и коммерческие ночные рестораны, где писатели и артисты получали скидку в тридцать процентов, а старшие офицеры – в пятьдесят.
Москва жила предчувствием победы, и потому на концертах Агапкина зрителей никогда не убавлялось. Дирижерская палочка в руках Агапкина – точно волшебная. Достаточно одного ее взмаха, чтобы перенестись в прошлое: в довоенные счастливые дни.
Отныне с «Эрмитажем», его тополями и липами, с эстрадой-раковиной он не расстанется до самой своей отставки…
В августе 1951-го новым хозяином Лубянки стал некто Семен Денисович Игнатьев[181]. Когда-то, во время Гражданской, он служил на рядовых должностях в Бухарской ЧК, и этого факта биографии оказалось достаточно, чтобы вручить ему в руки самую мощную спецслужбу планеты.
Он был типичным партаппаратчиком послевоенной эпохи – этот Игнатьев: пугливым, исполнительным, серым. (До такой степени пугливым, что даже когда в марте 53-го охрана Ближней дачи доложила ему, что Сталин не выходит из своей комнаты и не подает никаких признаков жизни, глава МГБ не решился приехать на место и переадресовал подчиненных Лаврентию Павловичу. Эти трусливые часы ожидания стоили Сталину жизни.)
Такие, как он, и приходят теперь к власти. (А других и нет: всех инициативных и ярких сгноили еще в 37-м.)
Впрочем, не творческий подход нужен от Игнатьева: совсем другое. Новый министр должен «почистить» Лубянку, вымести поганой метлой окопавшихся там сионистов и врагов народа.
Его предшественник – Виктор Абакумов – уже сидит во внутренней тюрьме МГБ. Оказывается, он «помешал ЦК выявить законспирированную группу врачей, выполняющих задания иностранных агентов по террористической деятельности против руководителей партии и правительства»[182]. Вслед за министром в камеры переезжает и множество его соратников – заслуженных, увешанных орденами генералов.
«Пора снять белые перчатки», – буквально на первом же совещании заявляет Игнатьев. Это значит, что хватит миндальничать и играть в демократию: с врагами нужно и должно бороться их же, враждебными методами – бить, бить и еще раз бить. В помещении внутренней тюрьмы МГБ спешно оборудуют специальное помещение: пыточную. Из сотрудников тюрьмы формируют отдельную команду инквизиторов.
В декабре 51-го Сталин возрождает особое совещание при министре: страшный орган, которому теперь, как и в 37-м, дано право казнить без суда и следствия.
Забытое, казалось бы, ощущение всепоглощающего, липкого страха снова повисает в воздухе.
За годы войны страна хлебнула вольницы. Верилось, что вот теперь, после оглушающей победы, все пойдет по-новому. Но на смену морозному запаху фронтовой свободы пришел скрежет туго закручиваемых гаек.
Уже заклеймены позором «пошляки» Ахматова и Зощенко, «бездари» Прокофьев и Шостакович. Уже занимается «дело врачей». Уже отгремело дело «ленинградское», верстаются в Кремле сценарии заговоров новых, и даже верноподданнейшие Ворошилов и Молотов ждут со дня на день арестов.
Каждый день газеты бичуют презренных космополитов и низкопоклонников. Разоблачают происки заокеанских поджигателей войны. А тем временем советские соколы оттачивают свое мастерство на воздушных просторах Кореи…
Внутри самой Лубянки обстановка не лучше. Под подозрением – чуть ли не каждый. Из пыльных хранилищ извлекаются на свет божий компроматы двадцатилетней давности. Тотальная паранойя накрывает МГБ…
…Таланты гонимы при любой власти. Талант – это обязательно личность, неординарность мысли, внутренняя свобода, а власти нужны серые, покорные массы. Власти диктаторской, замешанной на страхе – тем паче.
За тридцать лет службы в органах Агапкин так и не сумел стать здесь своим. Для большинства он был непонятен, и уже потому неприемлем: не велика наука – палочкой размахивать.
… После войны Борис – старший сын Агапкина, окончив Высшую школу МГБ, пришел служить на Лубянку. Но, видно, отцовские корни проросли слишком глубоко.
И года не прошло, как явился он за советом к Василию Ивановичу:
– Не могу там работать. Каждый день – избиения, пытки. Кто не хочет давать показаний, ставят к стенке и для острастки стреляют поверх голов…
Агапкин отвел глаза. Наверное, в этот момент задумался он о смысле жизни; о том, в какой страшной организации довелось ему очутиться.
– Конечно, сынок, уходи…
… Снова, как и в 37-м, ловит он на себе косые взгляды сослуживцев. В каждом начальственном оклике чудится ему какой-то подвох.
Хотя внешне… Внешне все идет у Агапкина ладно. Сверкают на кителе высшие награды страны: орден Ленина, орден Красного Знамени. Совсем недавно оркестру его присвоили статус Образцового, и подчиняется он теперь не Высшей школе, а непосредственно МГБ.
Правда, звания Заслуженного артиста, к которому представили еще в войну, так ему и не дали. А потом этот – осенний вызов на Лубянку…
… Неулыбчивый майор из военной контрразведки смотрит на него точно на врага. Брови насуплены, фразы отрывисты.
Где, когда познакомились с гражданкой Пентек? Знали ли, что ее отец расстрелян как шпион? Понимали ли, что своими действиями подрываете авторитет офицера государственной безопасности? Задавала ли гражданка Пентек провокационные вопросы и вопросы разведывательного характера?
Он говорит с ним точно с мальчишкой, хотя майор этот годится ему в сыновья. Но это уже у сотрудников центрального аппарата в крови: доведется – они и отца родного подведут под статью.
– Подробно опишите, как все было, – приказывает майор. Агапкин садится перед чистым листом бумаги, и тотчас мысли уносят его далеко-далеко от Лубянки: в самое любимое его место на земле – сад «Эрмитаж»…
Из справки 3 Главного управления МГБ СССР[183] на В. И. Агапкина от 6 сентября 1952 г.:
«Агапкин В. И. в 1935 г. в Москве в саду „Эрмитаж“, где он выступал с оркестром, познакомился с венгеркой Пентек Гизелой Калмановной и ее сестрой Иоланой, которые в 1922 г. вместе с семьей прибыли из США в СССР как политэмигранты.