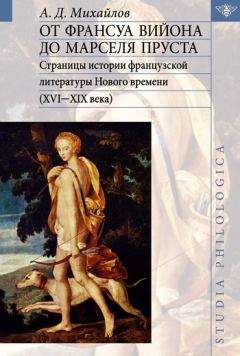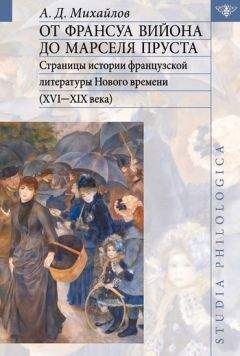Но были все-таки в XVII веке и жеманницы и версали. И в литературе остался внушительный пласт галантной «прециозной» эпиграммы. Это – третья линия в развитии жанра. Она, как ни странно, выросла из мадригала, из гипертрофированных восхвалений и славословий. Но его мастера и в своих изощренных хвалах не теряли чувства юмора (вспомним, как Буало верно подметил, что ржавчине иронии и шутки первым поддался мадригал); иные из них умели так искусно нанизать всякие галантности, вложить в них столько открытой иронии или затаенного сарказма, что порой хвалу от хулы было просто затруднительно отличить.
И, наконец, еще один вид эпиграммы. В это столетие, как никогда ранее, некоторые виды литературы стали предметом самого широкого общественного интереса (вспомним сцену в театральном партере из «Сирано де Бержерака» Ростана, где о достоинствах пьесы или баллады спорят и мушкетер, и кабатчик, и бродяга-поэт). Это тут же отозвалось литературной эпиграммой. Ни одно вызывавшее толки литературное произведение эпохи, будь то роман, поэма или трагедия, не оставалось без эпиграмматического обстрела. Причем если в предшествующем веке литературная полемика (скажем, Клемана Маро с неким Сагоном) не выходила за рамки достаточно узкой литературной среды, то теперь в споры писателей и поэтов включались читатели и слушатели, и разлетались повсюду язвительные эпиграммы. Были и излюбленные мишени для литературных острот, например незадачливый драматург Никола Прадон, пытавшийся соперничать с Расином. Он и ему подобные известны теперь не благодаря собственным сочинениям, давно и справедливо забытым, а по тем многочисленным эпиграммам, которые были им посвящены.
Да, XVII век не создал эпиграмматического канона, не выдвинул поэтов-эпиграмматистов в истинном смысле слова. Эпиграмма оставалась периферийным жанром, она не «делала» литературу, а лишь сопутствовала ей, но она во многом формировала общественное мнение, влияла на его вкусы, отвечала на его запросы. И вот что еще полезно отметить. Эпиграмма не была отгорожена от других жанров неодолимой стеной. Особенно тесно соприкасалась она с другими сатирическими жанрами, например с комедией. Иногда тема эпиграммы как бы разворачивается в комедийный сюжет, порой же остроумные реплики действующих лиц пьесы звучат как блестящие эпиграммы.
Литературная эпоха, как правило, не укладывается в жесткие хронологические рамки века. Смена стилей не происходит однажды и вдруг. Век Людовика XIV неоправданно шагнул в XVIII столетие. Поэтому и первые эпиграмматисты века Просвещения творят еще в духе и во вкусе предшествующей эпохи. Таковы эпиграммы молодого Вольтера, не оставившего своим вниманием и этот боевой сатирический жанр.
Но первым в ряду эпиграмматистов «века Разума» должен быть назван Жан-Батист Руссо (1670 – 1741). Он решительно вернулся к традициям Маро, к его излюбленным формам, строфам, размерам. По тематике же он еще остается сыном XVII века: его эпиграммы – это шутки по поводу шарлатанов-врачей, сластолюбивых монахов, глупых модниц, непробудных пьяниц, бесталанных стихоплетов и т. д. Типичное для классицизма создание характеров-масок обнаруживается и в эпиграмматистике Руссо.
Но ориентированный на опыт прошлого, Руссо вносит в него и нечто новое. Это прежде всего элемент стилизации, некой литературной игры. Уже сама форма, воспроизводящая то наивное простодушие Маро, то виртуозную изощренность поэтов галантных салонов, несет в себе элемент иронии, шутки, легкой усмешки и пародии. Вообще вторичность, ретроспективность искусства необыкновенно характерны для столетия, которое не без основания считают не только веком Просвещения, но и «эпохой рококо», хотя поэзия «мимолетностей», орнаментальность, игривость характеризуют лишь ее внешнюю сторону. Интимная грация, изящная прихотливость, тонкий эротизм, пристрастие к игре словами, к каламбуру, когда все произведение держится на шутке и ради этой шутки и создается, – все эти стилеобразующие признаки рококо особенно легко и органично реализовались в эпиграмме. Стиль жизни общества, значительно раздвинувшего свои границы, сделал шутливость, остроумие непременными своими атрибутами. Появились завзятые острословы; шуткой облекались и рассуждения на философские темы, и смелый политический трактат, и эпическая поэма.
XVIII столетие иногда называют «веком без поэтов». И это в известной мере верно, хотя, конечно, поэты были, и они писали и длинные поэмы, и короткие стихотворные каламбуры. Поэмы, как правило, забылись (пожалуй, кроме «Орлеанской девственницы», насквозь ироничной и эпиграмматичной), плоды же «легкого стихотворства» остались, определив лицо века.
Первое, что следует отметить в эпиграмме эпохи Просвещения, – это легкость, виртуозная незамысловатость, впечатление блестящего экспромта, родившегося у вас на глазах. Непредвиденности, остроте развязки уделяли повышенное внимание. Экспромт не мог быть длинным, и эпиграмма все более укорачивается, сжимаясь до шести, четырех, даже порой двух строчек. В этих условиях особенно отрабатывалась неожиданная концовка, на подготовку которой уже просто не было времени – столь новая эпиграмма была стремительна и коротка. Лаконизм и острота развязки становились непременными приметами эпиграмматического стиля. Эти качества особенно ценились, причем представителями разных политических и литературных лагерей. Не будем забывать, что это был век острейшей идеологической борьбы, и на поток язвительных эпиграмм, обрушенных Вольтером и другими просветителями на реакционеров и ретроградов (причем и тут были свои любимые мишени – Дефонтен, Фрерон), последние отвечали иногда не менее хлестко и остроумно.
Помимо эпиграммы злободневной, во многом полемичной, рожденной логикой литературных споров (здесь особенно популярными стали насмешки над Академией, уже второй век возившейся со своими знаменитыми томами толкового словаря) и идейной борьбы, процветала эпиграмма галантная – типичная эпиграмма рококо. Но теперь это был не двусмысленный мадригал, а короткая гривуазная сказочка, слегка непристойная и игривая.
Велик был удельный вес эпиграммы антиклерикальной. «Философы» охотно прибегали к ней, не ограничиваясь уже, как в старину, насмешками над комическими чертами служителей церкви. Теперь вопрос ставился шире, острее, обобщенней. Никогда еще вся церковная организация – от туповатых приходских кюре до самого папы не была заклеймена и осмеяна так, как в эпоху Просвещения.
Эпиграмма, таким образом, была не только забавой великосветских салонов, к ней обращались просветители в своих спорах и идейной полемике. Вообще же, тогда эпиграммы писали все – политические деятели и негоцианты, военачальники и ученые, принцы крови и простые буржуа. Но прежде всего, конечно, поэты. Именно теперь эпиграмма стала вполне осознанным, конституировавшимся жанром, веселым, острым и мудрым, выдвинув своих признанных мастеров, под пером которых он достиг небывалого размаха и классической завершенности. Но писалось эпиграмм так много и «технология» их создания была настолько отработана, доступна, что появлялось, конечно, немало произведений-однодневок, внешне ладно скроенных, но внутренне неглубоких, слабых. Ведь подлинная эпиграмма, при всей своей злободневности, при всем своем остроумии, должна была нести и какую-то мысль, какое-то обобщение, пусть маленькое и локальное.
Речь у нас не о серой массовой продукции (хотя и ее наличие симптоматично), а о произведениях больших мастеров. Для одних из них, например для Вольтера, испробовавшего все жанры, «кроме скучного», эпиграмма оставалась на периферии их творчества. Другие отдали ей щедрую дань, а иные – и все свои творческие усилия.
Помимо Ж.-Б. Руссо, стилизатора и подражателя (не от недостатка таланта, а в силу творческих установок), среди эпиграмматистов первой половины и середины века назовем все того же Вольтера, Алекси Пирона (1689 – 1773), Жана Грекура (1683 – 1743). Все они в той или иной мере продолжают стилизаторско-архаизирующую линию Руссо. Восемь строк с внезапным разрешением сюжета в последнем стихе становятся наиболее популярной формой. Впрочем, Вольтер любил эпиграмму более короткую, злую и едкую, хотя не прошел мимо и стихотворений описательно-дидактических, в духе античных антологий. Но наиболее изобретателен он был в эпиграммах «на лица», чем прославился и Пирон, мастер остроумного намека, двусмысленной недосказанности, неожиданного каламбура. Постоянными жертвами его острот были аббат Дефонтен и Фрерон, которым он посвятил целые циклы эпиграмм, а также Французская Академия, членом которой он, между прочим, безуспешно пытался стать.
К следующему поколению поэтов принадлежит Понс-Дени Экушар-Лебрен (1729 – 1807), самый крупный представитель жанра и в какой-то мере его теоретик. Доживший до времен Империи, не очень державшийся за свои убеждения – он был и весьма умеренным роялистом, и ожесточенным республиканцем, и пылким бонапартистом, – Лебрен завершает эволюцию эпиграммы XVIII столетия. Дело, конечно, не в том, что он написал эпиграмм очень много – не менее 700; он как бы исчерпывает возможности жанра. К нему он относится серьезно, не сводя его задачи к хлесткой шутке или злому каламбуру. Его эпиграммы метко били в цель и, всегда направленные против определенных лиц (особенно доставалось известному литератору Лагарпу), выявляли в облике адресата что-то типическое, всеобщее. Стремясь к лаконичности, Лебрен особенно заботился о неожиданности финала и, надо это признать, всегда почти достигал успеха. Вот почему его эпиграммы стали своеобразным эталоном и им так охотно подражали русские поэты – И. Дмитриев, К. Батюшков, П. Вяземский и др. Но под пером Лебрена из эпиграммы все более исчезала сюжетность. Кроме того, столь напряженно занятый формой, построением стихотворения, поэт забывал или не учитывал его применения, а тем самым подрывал условия существования жанра. Мельчали и сужались побудительные причины создания эпиграммы, а вслед за этим – и сфера ее распространения. Написанная по очень частному поводу, эпиграмма переставала интересовать все общество, адресовалась снова узкому кружку друзей или собратьев по профессии.