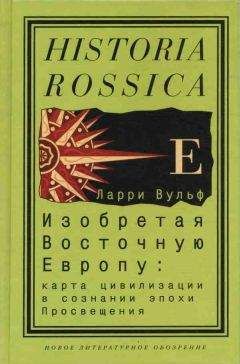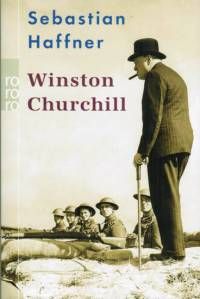Узнав о покорении Екатериной Крыма, Вольтер вновь обратил свое воображение к этому краю «прекрасной Ифигении». Он вспомнил, что Аполлон подарил татарину Абарису волшебную стрелу, которая могла переносить его с одного конца света на другой. Теперь же, благодаря екатерининским завоеваниям, Вольтер мог присвоить себе этот волшебный трофей: «Если бы у меня была эта стрела, я бы уже сегодня оказался в Санкт-Петербурге, вместо того чтобы, как глупец, слать знаки своего глубочайшего уважения и неколебимой привязанности повелительнице Азова, Каффы и моего сердца отсюда, из подножий Альп». Екатерина предложила отправить крымского хана танцевать в «Комеди Франсез», хотя, пожалуй, сам Вольтер пригласил бы его присоединиться к Кандиду на венецианском карнавале[552]. В первый день нового, 1772 года Вольтеру в его воображении рисовалась арена екатерининских побед, ее владения, простирающиеся непрерывно от Крыма до Польши и объединенные общей отсталостью и предрассудками. Крым представлялся ему «краем, где Ифигения резала головы всем иностранцам в честь прескверной деревянной статуи, похожей на Богоматерь Ченстоховскую». Двумя неделями позже Восточная Европа виделась ему как коллекция разных земель, и он воспевал присутствие там Екатерины: «Ваш дух проникает во все углы Крыма, Молдавии, Валахии, Польши, Болгарии»[553].
В 1769 году Вольтер собирался разделить Оттоманскую империю и ужинать с Екатериной в Софии, а теперь, в 1772 году, пока Россия, Пруссия и Австрия готовились к разделу Польши, он восхвалял этот раздел как «благородное» и «полезное» дело, средство против анархии. Он по-прежнему настаивал на вторжении еще и в оттоманскую Европу, поскольку теперь, покончив с «этим великим проектом» в Польше, Екатерина могла осуществить «тот, другой», чтобы однажды воцариться в «трех столицах: Петербурге, Москве и Византии»[554]. Вольтер представлял себе кампанию против турок как пародию на крестовый поход (не без примеси, конечно, итальянского фарса) и в конце 1772 году послал в Санкт-Петербург его сценарий:
Я проповедую этот маленький крестовый поход уже четыре года. Некоторые праздные умы вроде меня настаивают, что недалеко то время, когда Святая Мария-Терезия, в согласии со Святой Екатериной, воплотят в жизнь мои горячие молитвы; что ничто не может быть легче, чем занять в одну кампанию Боснию и Сербию и даровать Вам победу под Адрианополем. Что это будет за милое зрелище, когда две императрицы надерут Мустафе уши и отправят его восвояси в Азию.
Они говорят, что, если эти две отважные дамы так хорошо поняли друг друга, что изменили облик Польши, они поймут друг друга еще лучше, чтобы изменить и Турцию.
Вот время великих перемен, вот создание новой вселенной от Архангельска до Борисфена[555].
На самом деле Екатерина отметила создание новой империи в 1787 году, отправившись вместе с Сегюром вниз по течению Борисфена, то есть Днепра. Риторика сотворения и великих перемен была во многом позаимствована из «Истории Петра Великого», но в 1772 году Вольтер имел в виду нечто большее, чем просто Российскую империю (хотя и меньшее, чем вселенная): в его воображении рисовалась потерянная некогда часть Европы, простиравшаяся от Архангельска до Адрианополя. При этом становилась очевидной роль «праздных умов вроде меня», то есть философов Просвещения, императорских суфлеров, проповедников крестовых походов, зрителей, ради которых и затевался весь этот спектакль. В 1773 году Вольтер набросал письмо, с которым Екатерина должна была обратиться к Марии-Терезии («моей дражайшей Марии»), напоминая ей, что турки дважды осаждали Вену и что теперь пришло время уничтожить их. Для императриц продолжение этой кампании будет «развлечением месяца самое большое на три — на четыре, после чего вы вместе устроите все, как вы устроили в Польше». Вольтер был в отчаянии от того, что мир заключался слишком рано и турки остались в Европе; он цеплялся за свою старую фантазию, собираясь лично (c’est moi) переправиться через Дунай и скакать «галопом к Адрианополю»[556].
Однако, как Вольтер и предполагал, Мария-Терезия не слишком-то стремилась к разделу Оттоманской империи. Раздел католической Польши она считала деянием позорным, быть может, даже смертным грехом, совершить который ее вынудили государственные соображения, и расчленение Турции, хотя и мусульманской державы, вызывало у нее такое же отвращение. Более того, оттоманские владения в Европе, вроде Боснии и Сербии, она считала «нездоровыми» и «безлюдными» и думала, что присоединение их скорее ослабит, чем усилит ее империю. Даже Кауниц, смотревший на предлагаемый раздел более благосклонно, решил в 1771 году, что с приобретением Валахии и Молдавии в состав империи Габсбургов войдут «самые дикие народы»[557]. Сам Вольтер, который в 1773 году был готов скакать галопом к Адрианополю во Фракии, в 1756 году с пренебрежением писал об этом крае в своем «Опыте о нравах». «Наши части Европы, — писал Вольтер, — должно быть, имели в нравах своих и своем духе характер, которого недостает во Фракии, где турки основали столицу своей империи, или в Татарии, из которой они некогда пришли»[558]. Для Вольтера, однако, отсталость Восточной Европы, мерилом которой и служили манеры, была не препятствием для аннексии, а, напротив, оправданием имперских попыток возвратить ее в лоно цивилизации.
Среди прочих предупреждений, которые Вольтер слал своей «дражайшей Марии», он писал в 1773 году, что, если турков не выгнать теперь из Европы, барон де Тотт («у которого достает гения») подготовит их к будущим войнам. Начиная с 1770 года имя де Тотта регулярно всплывало в письмах Вольтера к Екатерине: «Как француз, я немного огорчаюсь, когда слышу, что шевалье де Тотт укрепляет Дарданеллы»[559]. Вольтер считал Тотта представителем Франции в Константинополе, а потому не только врагом Екатерины, но и своим личным соперником за право покорить Восточную Европу, опираясь на мудрость Запада. Его наиболее очевидным соперником был, конечно, Руссо, философ, как и он, но придерживавшийся прямо противоположных взглядов на Россию и Польшу; тем не менее Тотт все равно беспокоил Вольтера — беспокоил именно потому, что как офицер, как инженер, даже как путешественник мог вести битву за Восточную Европу недоступными Вольтеру способами. Стоило Тотту. опубликовать в 1785 году свои мемуары, как ему немедленно бросил вызов его вымышленный соперник, барон Мюнхгаузен. Пребывание Тотта в Константинополе придало в глазах Вольтера почти эпический характер продолжающимся в Восточной Европе войнам, где французы, подобно олимпийским богам, сражались на обеих сторонах. В 1771 году Тотт удостоился иронического поздравления как «защитник Мустафы и Корана»; сообщалось, что в Польше некоторые французы сражались против Екатерины, на стороне Барской конфедерации. Среди них был и один писатель, Станислас-Жан де Буффлер, родом из Лотарингии, сын любовницы Станислава Лещинского. «Я умоляю Ваше Величество захватить его в плен, — с иронией обращался Вольтер к Екатерине, — он Вас немало позабавит». Более того, «он будет складывать Вам песни; рисовать с Вас этюды; он напишет Ваш портрет, хотя и хуже, чем те, которые мои колонисты в Ферне рисуют на своих часах». Вне зависимости от их партийной принадлежности, Вольтер неизбежно рассматривал французов как посланцев наук и искусств в Восточной Европе. Поскольку Буффлер и Тотт оказались среди врагов Екатерины, Вольтер тем решительнее встал под ее знамена. Она была «первейшим лицом во всей вселенной», и он не сомневался, что Екатерина «одной рукой унизит оттоманскую гордость, а другой умиротворит Польшу». Хотя он не мог строить крепостей на Дарданеллах или бороться с фанатизмом в Польше, Вольтер надеялся, что однажды он и его часовщики из Ферне будут «трудиться на благо обширной Российской империи»[560].
Обнаружив, что французы сражаются против Екатерины, тогда как некоторые татары встают на ее сторону, Вольтер объявил, что «татары оказались цивилизованными, а французы превратились в скифов». Что до самого Вольтера, то «если бы я был моложе, я стал бы русским»[561]. Весь эффект такой риторической инверсии цивилизационного соотношения между Западной Европой и Европой Восточной был основан на откровенно ироническом изумлении: французы стали скифами! Вольтер стал русским!
Сам Вольтер понимал, что может принести Екатерине лишь весьма ограниченную пользу. «Мадам, — писал он в начале 1772 года, — я боюсь, что Ваше Императорское Величество утомят письма старого швейцарского резонера, который ничем не может Вам услужить, который может предложить Вам лишь свое бесполезное усердие, который сердечно ненавидит Мустафу, который не любит польских конфедератов и который в своей пустыни лишь взывает к форелям Женевского озера: „Восславим Екатерину II“». Роль Вольтера сводилась к поздравительным письмам, но посредством этих писем императрица и философ могли обмениваться тривиальными символами цивилизации. В 1772 году Вольтер предложил отредактировать Мольера, сделав его пьесы пригодными для воспитанниц Смольного института в Санкт-Петербурге. «Этот небольшой труд развлечет меня, — писал он, — и не причинит ущерба моему здоровью». Рекомендовал он и подходящую к случаю новую пьесу, где действовали «татары двух видов (espèces)», обещая прислать ее, как только она появится в печати. Екатерина отвечала, что воспитанницы уже представляли на сцене «Заиру» самого Вольтера. Она с благодарностью приняла его предложение кастрировать французскую классику и, не без легкого эротического оттенка, заверила старика, что юные смолянки представляют собой прелестное зрелище: «Если бы вы только могли их видеть, они заслужили бы ваше одобрение». Как раз в это время Екатерина принимала у себя при дворе молодого татарского князя, чьи крымские владения она только что завоевала; по воскресеньям он ездил с ней в Смольный смотреть представляемые институтками пьесы. Дабы Вольтер не опасался, что она «пускает волка к агнцам», Екатерина заверила его, что князя отделяет от девушек на сцене двойная балюстрада[562]. Эта ситуация отлично отражала общие заботы двух цивилизаторов: Вольтер поставлял в Петербург французские пьесы о татарах, Екатерина в Петербурге знакомила татар с французскими драмами в исполнении русских девушек.