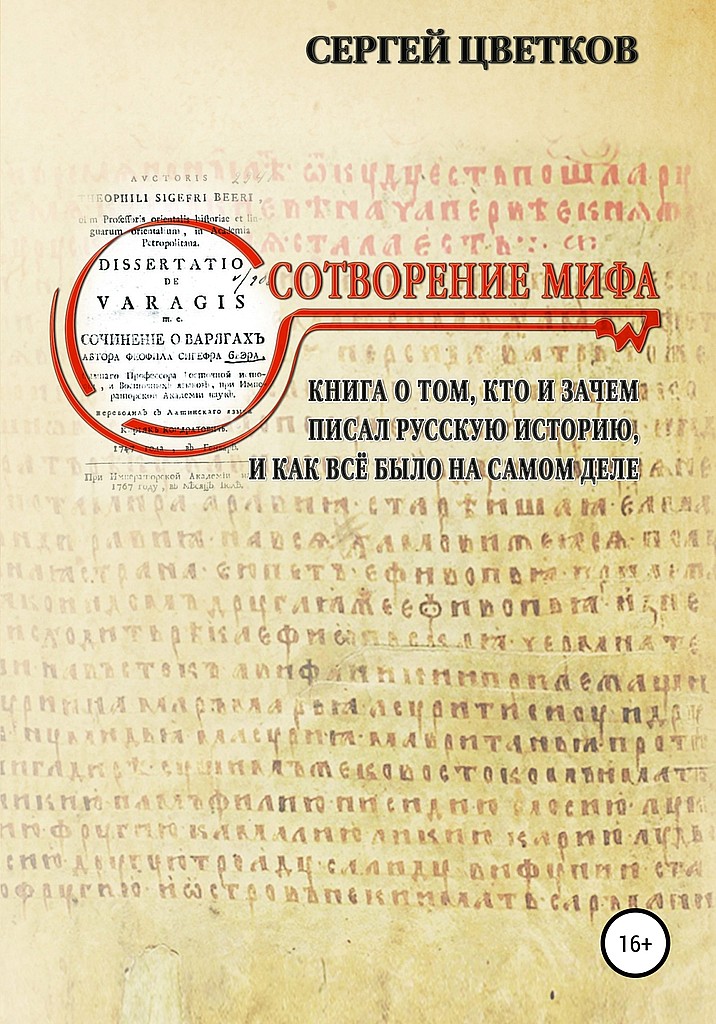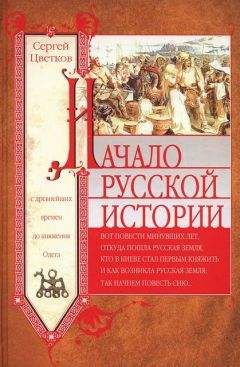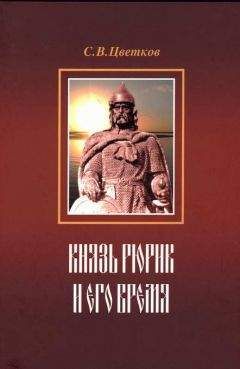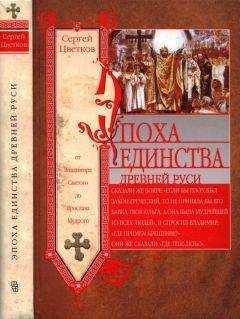Александр позднее, когда речь заходила о Лагарпе. Швейцарец, в свою очередь, отзывался о своём воспитаннике в самых восторженных словах, находя в нем драгоценные задатки высоких доблестей и необыкновенных дарований. «Ни для одного смертного природа не была столь щедра, — писал Лагарп. — С самого младенчества замечал я в нем ясность и справедливость в понятиях». До последнего дня своей жизни он считал, что Александр — исключительная личность, которая является раз в тысячу лет.
Учить великого князя русской словесности, истории и нравственной философии было поручено Михаилу Никитичу Муравьеву, образованному и доброму человеку, автору многих сочинений либерально-сентиментально-дидактического направления. Ни в чем не отставая от Лагарпа, он читал десятилетнему ученику свои собственные идиллии о любви к человечеству, законе, свободе мысли и давал ему переводить на русский язык Руссо, Гиббона и других писателей европейского Просвещения.
Благодаря такому воспитанию, Александр смолоду в задушевных разговорах выражал ужас от одной мысли, что ему придётся быть самодержавным монархом: «Я никогда не привыкну царствовать деспотом». Наследственную монархию он полагал «установлением несправедливым и нелепым, ибо неограниченная власть все творит шиворот-навыворот». Единственным его желанием, признавался он Лагарпу, было «предохранить Россию от поползновения деспотизма и тирании». Он клятвенно обещал спасти несчастное отечество от этих бед путём установления «свободной конституции» и «утвердить благо России на основании непоколебимых законов». Лагарп вспоминал, что никогда не слышал от Александра слова «подданные», но лишь «соотечественники», «сограждане». Однажды, уже после того, как во Франции король Людовик XVI стал простым «гражданином Капетом», Александр выступил при бабушкином дворе с публичной речью в защиту равенства. «Требование равенства между людьми — справедливо, — заявил он, — и напрасно французские дворяне беспокоятся лишением сего достоинства, поскольку оно состоит в одном названии».
Князь Адам Чарторийский, содержавшийся в Петербурге на положении почётного заложника и близко сошедшийся с Александром, в первой же беседе с великим князем (весной 1796 года) имел возможность познакомиться со всем кругом его либеральных воззрений. Александр порицал внешнюю политику своей бабки, оплакивал несчастную участь Польши и выражал своё восхищение великим Костюшко. «Он признался мне, — вспоминал князь Адам, — что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он не проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, равно должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересуется французской революцией; что, не одобряя этих ужасных заблуждений, он все же желает успеха республике и радуется ему». Александр поделился с князем Адамом своей заветной мечтой — увидеть установление повсюду на земле республиканского правления и заявил, что передача верховной власти должна зависеть не от случайностей рождения, а от голосования народа, который в состоянии выбрать себе наиболее способного правителя.
Зная все это, стоит ли удивляться тому, что в юности у Александра была только одна религия — религия «естественного разума»? Лагарп был убеждённым атеистом, чрезвычайно враждебно относившийся к христианству, которое для него целиком олицетворялось в исторических грехах папства. Немногим больше религиозного чувства Александр мог почерпнуть и в наставлениях своих официальных духовных учителей. Его законоучителем и духовником был назначен протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, проведший почти полтора десятка лет заграницей, в Англии, где он приобрёл изрядную образованность и светские манеры.
Его европеизм простирался до того, что он брил бороду и носил светский костюм. Христианство отец Андрей понимал в духе просвещённых прелатов того времени — как средство водворения между людьми чистых, приятных отношений, и только; учил великого князя «находить во всяком человеческом состоянии своего ближнего. Тогда никого не обидите, и тогда исполнится закон Божий». Наставления его имели оттенок довольно плоского морализаторства и совершенно не затрагивали глубинных потребностей духа. Александр позднее вспоминал: «Я был, как и все мои современники, не набожен».
Ему нужно было пережить две трагедии — личную, гибель отца, и народную — 1812 год — для того, чтобы открыть в своём сердце мистические глубины и начать задумываться над тем, что означает быть христианским государем.
А пока что уделом Александра был сентиментальный романтизм, с его беспредметной чувствительностью. Как выразился позднее (1829) «Московский Телеграф», «тогда находили удовольствие в том, чтобы плакать, и когда плакали, то были веселы». Великий князь умилялся до слёз и от сентиментально-дидактических идиллий Лагарпа, и при виде «красот природы» — полевого цветка, сельского пейзажа или молодой «поселянки» в нарядном платье. В разговорах и в письмах друзьям он делился своей мечтой — сельские занятия, простая, уединённая жизнь на какой-нибудь ферме, в уютном далёком уголке: «Я сознаю, что не рождён для того сана, который ношу теперь, и ещё менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом… Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу ещё положительно назначить время сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая своё счастье в обществе друзей и в изучении природы» (письмо к Кочубею, 10 мая 1796 года).
Конечно, к осуществлению этого плана не было сделано никаких приготовлений. Тем не менее, это писалось искренне, в мечтательном чаянии этой утешительной иллюзии.
Впоследствии лицо Александра ещё не раз оросится слезами — в частных беседах и на публике. Но не следует обманываться: за сентиментальными вздохами и потоками слез не скрывались ни мягкосердечие, ни тем более дряблость воли. Александр ни разу не усомнился в своём праве ради государственной пользы распоряжаться жизнью своих «сограждан». Так, все разговоры о вреде военных поселений он оборвёт жестокой фразой: «Они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова». И по крайней мере часть этого расстояния действительно была вымощена означенным материалом. Однако этот и несколько других примеров жестокости, которые история числит за Александром, не могут опровергнуть того факта, что расчётливая бесчеловечность была ему чужда. Гораздо чаще в подобных случаях он старался услышать голос совести, и его знаменитое «Не мне карать», сказанное в ответ на представленный генерал-адъютантом Васильчиковым доклад о тайных обществах, полностью разоблачающий заговорщиков, тому порука.
Что до пресловутой слабости воли Александра или даже полного её отсутствия, о чем так много писали мемуаристы и историки, то это не более, чем обман зрения, причиной которого была необыкновенно развитая осторожность, выработанная им за годы придворной жизни. В семейном кругу его не зря называли кротким упрямцем. Тот, кто был обманут мягкой обходительностью и уклончивостью Александра, обыкновенно очень быстро