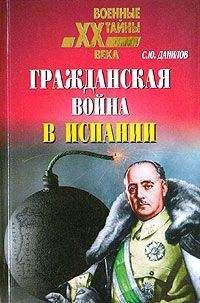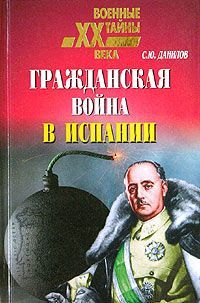Изложение истории гражданской войны в школах и вузах СССР осталось политически пристрастным и потому крайне обедненным. Войну и ее последствия разрешали изучать только с позиций победителей. Ее никогда не именовали катастрофой. Она преподносилась как время духовного подъема и даже роста народного благосостояния. Физические и нравственные страдания народа по обе стороны фронта, разрушение правопорядка и государственности, трагедии разделенных фронтами или границами семей, судьбы эмиграции и т. д. тщательно замалчивались.
Исследование Белого движения и жизни русского зарубежья даже в высокопоставленных исследовательских центрах — институтах Академии наук, Высшей партийной школе было вплоть до середины 1970-х годов невозможно. О написании фундаментальной истории белых армий нашим военным и гражданским аналитикам, в отличие от испанских, оставалось только мечтать.
Публицистический фильм «Перед судом истории» (1963), построенный в виде честной дискуссии между безымянным советским ученым и монархистом Шульгиным, мог стать заметной вехой в процессах общенационального примирения. Собственно, ради этого он и был снят. Но фильм демонстрировали только в одном столичном кинотеатре, а через несколько недель и вовсе изъяли из проката. Советский историк заметно проигрывал в полемике престарелому монархисту. К тому же с экрана впервые в СССР прозвучали непривычные слова о равной причастности красных и белых к казням и расправам. Лента пролежала в запасниках свыше трех десятилетий.
Начавшие выходить в свет с конца 1970-х годов крайне малочисленные работы о жизни наших изгнанников за рубежом («Полынь в чужих полях» А. Афанасьева, «Агония белой эмиграции» Л. Шкаренкова) по-прежнему в одностороннем порядке возлагали вину за гражданскую войну на Белое движение.
Популярная тогда иллюстрированная «Неделя», давая понять, что участь изгнанников была горькой, тем не менее даже в 1978 году устами обозревателей В. Кассиса и Л. Колосова иезуитски спрашивала читателей о белоэмигрантах: «А кто им велел уезжать?» Обозреватели издевались над надгробной надписью ветеранов Дроздовской дивизии в Сен-Женевьев-де-Буа, мстительно напоминая читателям через полвека после событий, что белогвардейцы «жгли, угоняли скот, бесчинствовали».
Исследовать процессы общенационального примирения было разрешено только крайне малочисленным ученым-испанистам. Написанные ими тогда коллективные монографии «Испания XX века» (1967) и «Испания 1918–1972» (1975) исследовали эволюцию франкистской диктатуры и освещали переход страны от гражданской войны к примирению.
Характерно, что заниматься подобным анализом не разрешали гораздо более многочисленным советским американистам. В их работах примирение северян и южан в США, последовавшее за гражданской войной, всецело игнорировалось или же именовалось «предательством».
О сооружении памятников белым деятелям России не могло быть и речи. Их портреты отсутствовали в учебниках, монографиях, энциклопедиях. Их умерщвляли молчанием. (Автор этих строк впервые обнаружил фотографии Колчака и Деникина в 1970 году в венгерском иллюстрированном издании.) Не печатался замечательный примиритель Максимилиан Волошин. Под запретом оставались письма Короленко и «белый цикл» Цветаевой.
Марину Цветаеву, когда-то легально выехавшую из Советской России, от игнорирования при жизни и от длительного посмертного замалчивания не спасло даже ее добровольное легальное возвращение на родину. Не были востребованы в 1941 году и ее антигерманские настроения.
Массовые советские библиотеки, киноэкран и эфирное время заполнялись восторженными жизнеописаниями Блюхера, Тухачевского, Чапаева, Щорса, Ларисы Рейснер, «красных дьяволят», «великих голодранцев», «героев Первой Конной», «орлят Чапая», «неуловимых мстителей» и др.
И без того очерненные в печати образы белых еще более обеднялись и окарикатуривались при экранизации литературных произведений («Сердце Бонивура», «Тени исчезают в полдень», «Пароль не нужен»).
Даже в книгах, в сущности посвященных примирению («Два капитана», где герой — из стана победителей, а героиня — из лагеря побежденных), образы белых сугубо отрицательны.
Разрешенные к печати книги вернувшихся в СССР Александровского, Любимова не только тщательно цензурировались, но и выходили ничтожно малыми — сравнительно со спросом на них — тиражами. Вполне верноподданнические воспоминания Вертинского вышли только посмертно, причем лишь в малодоступном широкому читателю журнальном варианте. Из более чем сотни песен Вертинского (сплошь лишенных политического содержания) разрешено было к исполнению всего 30.
Вопрос о цене победы красных в гражданской войне даже не ставился. Отваживавшиеся поднимать данный вопрос исследователи быстро лишались работы. В этом отношениии СССР неумолимо отставал от Испании.
С 40-х до 80-х годов XX века советские СМИ никак не комментировали фактов возвращения на родину отдельных деятелей послереволюционной эмиграции — Вертинского, Коненкова, Цветаевой, Прокофьева и др. Скупые упоминания об этом были рассеяны по малотиражным или спецхрановским изданиям. Последним «возвращением», о приезде которого на родину сообщили газеты и кинохроника, был А.И. Куприн (1937).
О фактах героической гибели русских эмигрантов от рук нацистов в оккупированной Франции советские граждане стали узнавать с 20-летним опозданием — с 1965 года, когда некоторые борцы Сопротивления русского происхождения были посмертно награждены советскими орденами.
В отличие от Испании, в Советском Союзе такие институты, как церковь и армия, даже во второй половине XX века не могли дать импульсов к общенациональному примирению. Со всей силой сказывались полное подавление свободы мнений в армии, политическое бессилие духовенства всех конфессий, придирчивая цензура на всех уровнях. Тем более не могли произвести подобных импульсов казенные профессиональные объединения, пронизанные подкупом, слежкой и доносительством — союзы писателей, художников, композиторов, архитекторов и др.
Во всем этом наглядно проявлялось роковое явление нашей истории XX века — сильнейшее разрушение ткани гражданского общества, которым сопровождалась наша революция и гражданская война.
Новая, третья по счету волна примирения стала поэтому плодом не государственной политики, а сугубо стихийных импульсов, исходивших непосредственно из гражданского общества. Постепенно восстанавливавшее свои силы гражданское общество устало от постоянной борьбы с врагами, от «продолжения революции» и «повышения бдительности» (становившихся к тому же все более показушными). Оно стихийно и откровенно стремилось к гражданскому миру.
Третья волна примирения шла снизу. Она проистекала из менталитета городской интеллигенции — умственного авангарда общества, более всего пострадавшего от гражданской войны и ее последствий и более всего осмысливавшего ее.
Интеллигенция не в силу врожденных добродетелей, а в силу социально-профессионального положения имела наибольшие возможности освоения творчества литераторов, живших в белой России и послуживших соединительными звеньями между побежденными и победителями — Булгакова, Вертинского, Грина, Куприна, Паустовского, Толстого («красного графа»), Цветаевой, Шульгина.
Третья волна примирения стала заметной с конца 1950-х годов. Среди ее деятелей были отдельные литераторы, драматурги, кинорежиссеры. В отличие от двух первых волн, она не знала попятного движения.
Необходимо отметить в этой связи повести «Жестокость» (1954) и «Пароль не нужен» (1965), пьесу «Однажды в двадцатом» (1967), кинофильмы «Служили два товарища» (1968) и «Бег» (1970), телесериалы «Адъютант его превосходительства» (1970) и «Дни Турбиных» (1976). Каждое из данных произведений становилось событием.
Ранней ласточкой третьей волны стала повесть П. Нилина «Жестокость» (вскоре экранизированная). Она довольно откровенно обвиняла в жестокости и вероломстве не белых и не зеленых, а красных.
Повесть Ю. Семенова «Пароль не нужен» подробно рассказывала о развитой политической демократии в занятом белыми Приморье и о сильных разногласиях в лагере белых, умело разжигавшихся красной агентурой. (В киноверсии повести эти мысли искусственно сглажены, а многозначительные слова одного из персонажей о мертвых белых и красных: «Все они — русские» изъяты.) Знамением времени стала публикация повести в органе ЦК комсомола — журнале «Молодая гвардия».
Пьеса «Однажды в двадцатом» фактически ставит на одну доску красного политработника и белого офицера, высвечивая их общую принадлежность к неспособной на изуверство интеллигенции, и сосредотачивает критику на зеленых. Выведенная под псевдонимом Казачки Землячка и красный командир «чапаевского» типа не вызывают у автора симпатии. Написанная Н. Коржавиным пьеса имела успех, но немедленно вызвала протесты ветеранов гражданской войны и была снята после двадцатого спектакля.