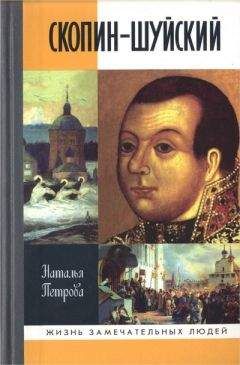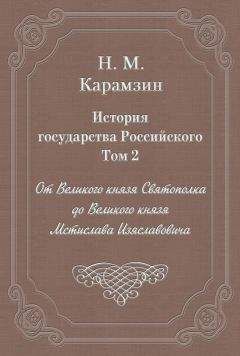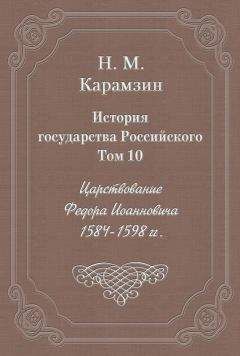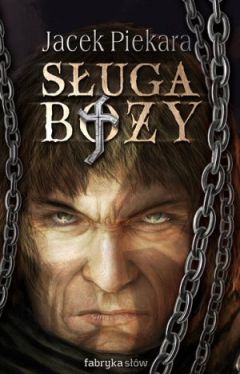Военное дело приучает к решительности, а победы и почести народные утверждают полководца в правоте его действий. Скопин спокойно выслушал Дмитрия, которого своим соперником никогда не считал, и напомнил, что все договоры, где упоминалось о передаче шведскому королю русских земель, он направлял в Москву на царское утверждение и ни одной грамоты по собственной инициативе не подписал. Посланцев из Рязани он действительно отпустил — было дело, пожалел, — но престола таким недостойным способом никогда не искал, «и в уме не было». Но если сейчас, когда в руках врагов еще остаются русские города, а польский король стоит со своим войском под стенами Смоленска, начать сеять рознь между собой, тогда, действительно, недолго осталось жить Русскому государству, и лучше царю Василию добровольно отдать кому-нибудь другому царский венец[575].
Эти с достоинством произнесенные слова одновременно и обрадовали царя, и заставили поволноваться, — уж очень самоуверенно вел себя молодой воевода, видно, что давно не был в Кремле, привык все решения там, вдали от Москвы, принимать самостоятельно. Ничего, нужно будет поскорее отправить его в смоленский поход и дать ему проверенных воевод в войско, чтобы присматривали за ним.
Народное признание и одержанные победы могли не только придать Скопину уверенности в словах, но и голову вскружить молодому воеводе. А самоуверенность породила дерзкий тон в разговоре с царем и тем ускорила развитие событий. К слову, в песнях, посвященных Скопину, его «головокружение от успехов», которое приводит в конце концов к гибели воеводы, нашло свое место:
…Сильный хвастает силою,
Богатой хвастает богатством;
Скопин-князь Михайла Васильевич,
А и не пил он зелена вина,
Только одно пиво пил и сладкий мед,
Не с большего хмелю он похвастается:
«А вы глупой народ, неразумные!
А вы все похваляетесь безделицей;
Я, Скопин Михайла Васильевич,
Могу, князь, похвалится,
Что очистил царство Московское
И велико государство Российское;
Еще ли мне славу поют до веку,
От старого до малого,
А от малого до веку моего!»[576]
Слухи о нелицеприятном разговоре, состоявшемся в царском дворце, быстро облетели Москву. Якоб Делагарди настоятельно советовал Скопину как можно быстрее идти под Смоленск; ходили разговоры, что царь собирается отправить туда и своего брата, неумелого и трусливого. Радости воевать рядом с ним шведский военачальник не испытывал, поэтому по-дружески советовал Скопину уходить из Москвы: «Яков ему Пунтусов говорил беспрестани, чтоб он шол с Москвы, видя на него на Москве ненависть»[577]. Делагарди был хитер и опытен, он быстрее Скопина разглядел угрожавшую тому опасность и пытался ее предотвратить. К тому же доверенные люди не раз сообщали генералу, что среди недовольных царем Василием сложился верный кружок сторонников королевича Владислава, к которому уже отправили посольство. Этим людям поход Скопина на Смоленск сейчас был совершенно не нужен, поэтому, как опасался Делагарди, от молодого и талантливого полководца постараются как можно быстрее избавиться.
Царь между тем чествовал победителей, воздавал по заслугам: Михаилу Скопину был пожалован палаш в золотых ножнах, украшенный драгоценными камнями, 18 марта в Грановитой палате был дан обед в честь «воеводы Карлуса короля свисково Якова Пунтусова». На Пасху, 8 апреля, царь пожаловал Семена Головина в окольничие, всем наемникам заплатил сполна жалованье деньгами и мехами, офицеров войска Делагарди «почтил по случаю прибытия золотой и серебряной посудой из своей казны»[578]. После пира в знак особой милости царь присылал Делагарди в дом блюда и вина со своего царского стола.
Михаил в это время радовался редкой возможности побыть с женой и матерью, которых не видел уже полтора года, встречался с друзьями и родными: скоро предстоял поход на Смоленск, и неизвестно, сколько он продлится. Когда наступили Пасхальные дни, с удовольствием принимал приглашения прийти в гости. Всем хотелось послушать из первых уст, как была освобождена Троицкая обитель, что в действительности произошло под Тверью и почему так долго стояли войска в Калязине. Но более других всех занимал вопрос: что будет дальше? Неужели Сигизмунд и впрямь может взять Смоленск: говорят, в его войске много и запорожских казаков, и опытных наемников, да и сами поляки вояки хоть куда, — что думает об этом Скопин? А самозванец — правду ли он убит «литовскими людьми» (о чем говорили тогда в Москве)[579] или опять спасся и новое войско набирает? А «люторанка Маринка»? Не хочет ли она еще раз сесть на царство? Воевода и сам задавал себе эти вопросы, да вот только ответы не на все знал.
Рассказывал Скопин близким людям и о старце Иринархе, его благословении идти на штурм Троицкого монастыря. Когда же приехал из Борисоглебского монастыря в Москву ученик старца Александр, Скопин передал поклон старцу, подарки и вернул простой медный крест, которым Иринарх благословлял его на битву. А старец, приняв тот крест, долго молился в своей келье о князе Михаиле: «…Аки в Иерусалиме при благоверном царе Констянтине на сопостаты, тако и ныне, Господи, Твоею милостию невидимою прогнани бысть литва от лица православных христиан. Ты же, Господи, во веки сохраняевши нас. Аминь»[580].
Отблагодарил Михаил и братию Соловецкого монастыря за оказанную ими молитвенную и денежную помощь войску во время похода к Москве. Как когда-то его отец отправил в монастырь водосвятную чашу, едва избежав смерти от рук Годунова, так и Михаил отправил в обитель свой парадный придворный кафтан, сшитый из дорогого, привезенного из Италии «золотного аксамиченного бархата»[581]. В этом кафтане с высоким, шитым жемчугом воротником Михайло красовался на царской свадьбе. Темно-красным шелком и золотыми нитями были искусно вышиты двуглавые орлы, единороги, птицы с расправленными для полета крыльями, похожие на его родовую скопу, — какого только узорочья там не было! Молодой воевода очень любил этот нарядный, стоивший немалых денег кафтан, потому и отдал, не задумываясь, вкладом в монастырь, где рукодельные трудницы сшили из него облачение для священников монастыря.
В те дни особенно всем хотелось видеть знаменитого воеводу крестным отцом своих младенцев, — от таких предложений не было отбоя. Принял Скопин приглашение и Ивана Воротынского быть восприемником его новорожденного сына. Кумой Воротынские выбрали жену Дмитрия Шуйского — княгиню Екатерину, в девичестве Бельскую, отец которой Григорий Лукьянович был более известен как Малюта Скуратов. Встречаться с семейством Шуйских Скопин не хотел, но и отказать Воротынскому не мог.
Мать уговаривала его не ездить туда, где будут Шуйские, она еще с Александровской слободы просила сына поостеречься, говорила ему: «лихи в Москве звери лютые, а пышат ядом змииным»[582]. Михаил только посмеивался над ее страхами: кто на него, такого детину, руку поднимет? Но на пиру все же решил не задерживаться, чтобы не столкнуться с Дмитрием. Поэтому едва лишь гости расселись за столы, помолившись, принялись неспешно есть и пить, зазвучали речи, — Скопин засобирался домой. В этот момент хозяин дома произнес заздравную речь князю Михаилу, а княгиня Екатерина подошла к Скопину с чашей. Не хотел Михаил ничего принимать из рук дочери Малюты, но по обычаю нужно было выпить чашу до дна — показав, что он доверяет и Екатерине, подносившей чашу, и хозяину дома Воротынскому.
Сразу после пира Скопин занемог — едва успел добраться до своего дома, как «очи у него возмутилися, а лице у него страшно кровью знаменуется, а власы у него на главе стоя колеблются». Страдавшего непонятным недугом, при котором «утробе люто терзатися», молодого человека осмотрели присланные Делагарди «доктуры немецкие», однако поделать ничего не смогли.
Муки умиравшего, крепкого, недюжей силы 23-летнего мужчины, были ужасны: «он же на ложе своем в тосках мечющесь и биющеся и стонущу и кричаще лютее зело, аки зверь под землею». Промучившись несколько дней, исповедавшись и причастившись, как и подобает христианину, 23 апреля, в день памяти великомученика Георгия, Михаил Скопин отошел к Богу. Носивший имя предводителя воинства Архистратига Михаила, он и в мир иной ушел в день памяти другого святого воина — Победоносца Георгия. Печаль народная о нем была велика: «скорбела вся Москва», — как записал один из иностранцев.
В исторической литературе существует множество версий произошедшего. Суть споров сводится к двум вопросам: действительно ли Скопин был отравлен или скончался естественной смертью? И если смерть была насильственной, то кто его отравитель?[583]