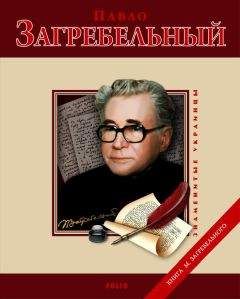- Но я ведь никогда его не видела, как же узнаю?
- Смотри, - последовало в ответ.
И вдруг увидела и узнала сына, родное дитя, хотя и не верила, что такое возможно. Шел в одной сорочке, светло-русый, красивый, глаза, как у нее, - серыми длиннохвостыми птицами: сын шел уверенно, размахивал одной рукой, будто взрослый мужественный воин, а другую прижимал к боку, придерживая что-то под мышкой.
- Что там у тебя? - Он не остановился, как-то чудно дернул плечом вверх, и под мышкой блеснуло, растягиваясь в прямую длинную полосу, золото. Евпраксия закричала отчаянно: - Что это? Крест? Брось его? Брось!
Но маленький кивнул головой через другое свое плечо, - погляди, мол, назад, оглянись, и она поглядела и увидела, что сын идет впереди тысяч детей, ведет их за собой, они собираются из Германии, Бургундии, Франции, маленькие, неразумные, беззащитные, и все они идут молча, упорно, ослепленно. Куда? В крестовый поход. Никто не говорит, но все знают*. Страшно, страшно! Дети перебираются через горы, проходят долины. Детей травят собаками. Забрасывают камнями. Им даже воды не дают, и дети пьют из ручейков и рек, по-звериному, с колен, лакают грязную теплую воду... Евпраксия бежит за сыном, за детьми - не может догнать, зовет - ее не слышат, просит помощи - не откликаются. И вот дети на морском берегу, вырастает огромный черный корабль, а перед кораблем - папа Урбан в золотой тиаре, он стучит золотым крестом по корабельному борту, как в дверь, и кричит: "Сюда, воины Христовы, сюда!" - "Они же не поместятся!" восклицает Евпраксия. "Все в воле божьей", - отвечает Урбан, а ее сын останавливается рядом с Урбаном и начинает помогать ему загонять детей на корабль. Она подбегает ближе и - задыхается от ужаса: у корабля нет дна (но он не тонет!), только борта - и морская бездна внизу. Дети падают в бездну, исчезают в ней, а на их месте появляются новые, и папа гонит их в бездну, и они, в свою очередь, исчезают в пучине; когда же тонет последний из пришедших, Урбан сталкивает на корабль ее маленького сына и море смыкает над ним свои воды и все кончается, и на целом свете навеки поселяются ужас, темнота, и навсегда угасают золотые глаза чеберяйчиков...
_______________
* В 1212 году в самом деле был крестовый поход детей Германии и
Франции. Почти все они погибли по дороге или в неволе. Хронисты
цинично называли это трагическое событие expeditio derisoria
смешной поход.
Не явь, но ведь и не сон? Так и провела раннее утро, не решив, сон или явь в помраченном сознании. Не заметила отсутствия Вильтруд; машинально надела все черное, но на грудь - опамятовалась - набросила золотую цепь. Не императорскую - киевскую, пускай поможет своя.
К месту собора, согласно обычаям, все должны были добираться пешком, даже сам папа. Князья церкви шли степенно, надменно, нарочито замедленно; долго располагались на отведенных скамьях - негоже поспешать перед тысячами глаз простого люда, сбившегося на поле в тесноте и быстро утомившегося от нетерпливого экстаза. Евпраксия вела себя как-то особенно по-женски: после одеванья долго капризничала, требовала от камеристки изысканности в прическе и в верхнем платье. Собиралась медленно, сразу не пожелала принять даже графиню Тосканскую, которая прибыла к императрице, чтоб сопровождать ее далее в покаянном ее походе на загородное поле,
Придворные дамы пугливо вздыхали, осуждающе поджимали губы, удивляясь поведению императрицы, в глубине души, наверное, завидовали независимости и твердости духа у молодой женщины; откуда такая... нескромность, осталась одна-одинешенька на свете, отвернулся народ, отвернулись сильные мира сего, сам бог лишил ее своей милости, погубив вчера одного из приближеннейших людей Адельгейды и оттолкнув довереннейшую баронессу Заубуш.
Наконец все готово, в покои допущена перед выходом на люди графиня Матильда, ей было дозволено поцеловать руку императрицы, после того как графиня Тосканская - неслыханное дело! - сделала вид (но ведь сделала, ведь такое произошло!), что становится перед императрицей на колени.
Ну, как тут не ждать от этого дня чего-то необычайного? Что еще выкинет эта загадочная русская княжна (ведь уже не императрица?) там, на поле, пред папой и прелатами, пред всей Европой и ее богом?!
Графиня Матильда сопровождала императрицу до самого поля и все время ворковала: "Мы со святейшим напой, мы, мы, мы..." Евпраксия не слыхала. Была уже на поле, снова возвышался над нею папа, снова зловеще затаились жирные прелаты, а оглянись - и в глазах потемнеет от тех бурлящих тысяч, кому, как детям из кошмара, предстоит погибнуть в бездне... В бездне папского ненасытного властолюбия. Папа - наместник бога на земле, продолжатель дела апостола Петра. Был Петр рыбаком. Плавал на лодке, бродил по берегам Генисаретского или Тивериадского озера. Для этих толп никакой лодки не хватит, никакого корабля. Весь мир готов бросить в бездну этот лысый безжалостный человек.
Так чего ждут от нее? Уже все всё знают, раззвонили папские клевреты(*) повсюду о тайнах ее несчастливой брачной жизни, теперь хотят, чтобы во всеуслышанье, пред толпами сказала о том же сама. Слушайте, слушайте, любопытные, жалобы-признания Евпраксии, жены императора Генриха, от брака освобожденной! Слушайте, тысячи! О, недаром слово "тысяча" издавна вызывало у нее ужас.
И вот она встала перед теми, кому должна была жаловаться. Тридцать тысяч на поле, разгороженном, чтобы избежать давки. Тридцать тысяч на огромном поле, в перед ними - слабая женщина со слабым голосом. Кто тут что услышит? Толпы давились, рвались к ней; люди отталкивали друг друга, задыхались, бранились, проклинали, топтали не устоявших на ногах, проталкивались, прорывались ближе к женщине, еще ближе, еще - услышать, ни словечка не пропустить, прелаты обещали такое, ого-го, в чем стыдно признаться даже самому себе. Неужели скажет, неужели было, неужели, неужели?.. Это простые дома заперты для разврата, а дворцы имущих открыты настежь. Вся грязь выливается на униженных, бедных, нищих, а вот теперь они чувствуют себя едва ль не выше самого императора, ну, да, у него превосходство, - в разврате, в гадостях, в извращениях и унижениях! Не в дворцах, значит, обитают, а в приютах разврата. И земли превратили в такие приюты, всю Европу, всю Европу.
- Вы, все, слушайте меня!
Кто это сказал? Неужели эта молодая слабая женщина со слабым голосом? Как она сумела пересилить гомон толп, огромного множества людей, их стоны, проклятья и брань? А может, и не говорила ничего, - просто смотрела на них, и утихомиривались, беззащитно-чистой красотой усмирялись самые дерзкие, самые буйные, самые крикливые. Не стала раскрывать сердца перед такими. Хватит! Душа ее билась, будто в судорогах, будто раздираемая диким сплетением угловатых кореньев, колючих ветвей, сквозь которые не пробиться, а тело, вроде отделенное уже от души, распято на холодных ветрах, на острых скалах и жгуче-колких терновниках.
Женщина, раздираемая болью, рождает нежность. Почему же ваш мир лишен нежности? Почему ваши души огрубели от вражды, от пороков, от темноты непробиваемой? Потому ли, что вера, пошедшая от простого человека, Христа, утверждена и распространена была затем невеждами-апостолами, ими вы приучены бояться разума, человеческой мысли, людской душевности? Собственные провинности сваливаете на кого-то, свое несовершенство не прощаете другим. Посмотрите на себя! Вы, обделенные душой, тупые, сластолюбивые, жадные, глупые и грязные! Вы ненавидите, чего не знаете, а что вы знаете? Руками в нечистотах хотите очистить чужую душу от крохотных пылинок. Вопите, будто благочестие ваше зиждется на любви, а сами и не любите, и не понимаете. Любовь требует знаний, слепая - будет наказана вами же самими. Мерзость и преступные страсти смакуете, а величие человеческого достоинства вам недоступно. Кто по-скотски угождает мерзким своим страстям - вот кто вам понятен. Кто же скотство свое победил непостижим для вас. Радость чистой совести вам неизвестна, вы не веруете ни в истину, ни в скромность, ни в трезвость, ни в простоту и достойное поведение, ни в одаренность, ни в чувства.
Больно ли вам от моих страданий? Загляните в себя, что увидите? Гнев, зависть, жажду вожделений плотских, пустословие, лицемерие, позор, позор бесчеловечия... Толпы смолкли, они смотрели на молодую женщину, как на святую, они поразились ее мужеством, красотой и чистотой ее. Слов почти не слышали. Да Евпраксия и не пробовала кричать - повернулась к прелатам и стала бросать в их холеные лица свои обвинения. Никто не ожидал такого! Кто-то из епископов, видно, по знаку самого Урбана, попытался перекрыть грубым хрипом голос женщины, напомнил какие-то грязные подробности похотливых затей императора, затем закричал про епитимью, ибо-де даже глаза следует очистить, ежели видели они грех блуда.
Евпраксия заломила руки. Гневливо обернулась к папе. Молчит. Где ж его обещания? Епитимья? На всех на них наложить бы епитимью - на их души, на их мир!