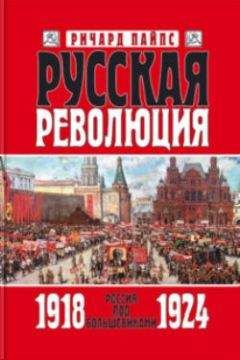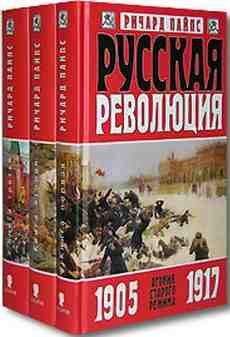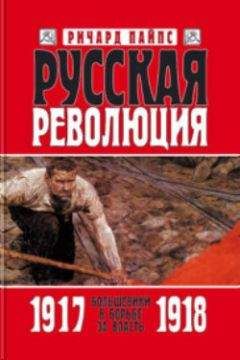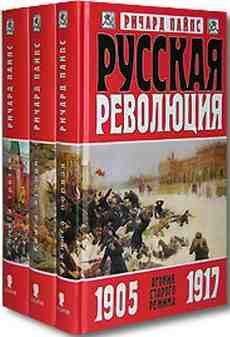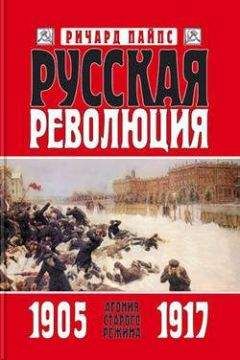Титулованный лидер партии кадетов Павел Милюков опубликовал в 1920 г. работу, в которой предостерегал Запад, что коммунизм не является, как там было принято считать, исключительно русской проблемой251. У коммунизма, говорил он, два лица: национальное и международное. Однако по преимуществу доктрина предназначается на экспорт, и основной стоящий за ней мотив — идея мировой революции. Но и это предостережение не нашло отклика. Сам же Милюков вскоре пришел к выводу, что коммунизм является болезнью переходного периода и служит прелюдией к триумфу демократии в России.
Русские монархисты имели за границей значительно больший успех. В 1920-х Германия стала гаванью для российских изгнанников правого уклона, многие из которых являлись по происхождению балтийскими немцами. Эта группа эмигрантов установила связи с германскими националистами и привнесла в идеологию последних убеждение, будто коммунизм и еврейство неразрывно связаны. Именно эти люди пропагандировали на Западе «Протоколы сионских Мудрецов», бывшие до того малоизвестной, изданной только по-русски брошюрой.
* * *
История Коминтерна, со дня его основания в 1919 г. и вплоть до формального роспуска в 1943 г., представляет собой череду беспросветных неудач. Как сказал бывший в одно время членом и ставший летописцем Третьего Интернационала Франц Боркенау, «в истории Коминтерна было много взлетов и падений. В ней нельзя проследить ни постоянного прогресса, ни хотя бы одного прочного успеха»252. Неудачи эти следует отнести прежде всего на счет невежества большевиков в том, что касалось особенностей политической культуры других государств. Лидеры большевиков провели в свое время много времени на Западе: с 1900 по 1917 гг. Ленин прожил всего два года в России, остальные — в Европе; Троцкий — семь лет в России, Зиновьев — пять. Но и живя в странах Европы, большевики поддерживали мало отношений с их населением, ведя изолированное существование среди собратьев-эмигрантов и общаясь только с самыми радикальными элементами из числа европейских социалистов. Мрачная репутация, которую получил на Западе Коминтерн, только подчеркивает, насколько коммунизм, несмотря на всю его интернациональную атрибутику, был великорусским феноменом, непригодным для экспорта. Культурные различия уже в то время воспринимались некоторыми исследователями как причина все увеличивающегося разрыва между Востоком и Западом: выражение «железный занавес» вошло в обиход уже в 1920-м году253.
Неудачи Коминтерна можно объяснить также и специфическими причинами. В 1918–1920 гг. в Западной Европе не существовало революционной партии, хотя бы отдаленно напоминающей большевистскую по численности и организованности. Когда же такие партии возникли — сначала под руководством Кемаля в Турции, затем под началом Муссолини в Италии, — они встали на путь национализма и использовали ленинские методы не для распространения коммунизма, но для борьбы с ним. Европейские социалистические партии не были жестко организованы и следовали скорее меньшевистской, нежели большевистской модели. Несмотря на то что в таких партиях были и радикальные группировки, они тяготели к реформам: чем теснее становились их связи с профсоюзами, тем меньше у них оставалось революционного азарта. Москве удалось сформировать европейские компартии только во второй половине 1920-х. В критический период сразу после подписания мира, когда возможности для распространения революции были наилучшими, у большевиков не было надежных партнеров за рубежом. Однако, даже когда компартии появились в Западной Европе, большевики не могли их эффективно использовать, настаивая, чтобы те переняли стратегию и тактику государственного переворота и гражданской войны, подобно тому как они это делали в России. Это было неосуществимо хотя бы потому, что на Западе не наблюдалось той анархии, на которую большевики опирались у себя в стране: даже в Германии уже через три месяца после отречения кайзера сложилось эффективное правительство. К тому же российское руководство Коминтерна не принимало во внимание европейского национализма. Когда в апреле 1918 г. известный анархист заявил, что западный рабочий никогда не посмел бы осуществить Октябрьскую революцию, поскольку «чувствует себя носителем кусочка власти и частью этого самого государства, которое сейчас защищает», в то время как российский пролетариат «духовно противостоит государственности», Ленин отмел эти соображения как «глупые», «примитивные», «тупые»254.
Как ни любил он напоминать сорвиголовам в своей партии, что Европа — не Россия и что революцию там несравненно более трудно осуществить, на практике Ленин вел себя так, будто различия эти не имели никакого значения. В июле 1920 г. он приказал Красной Армии идти на Варшаву, поскольку был убежден на основании опыта гражданской войны, что массы не отвечают на патриотические призывы. Ленину вскоре пришлось увидеть, насколько он ошибался, но большевики не усвоили урока: каждый свой провал за рубежом они сваливали либо на тактические просчеты, либо на нерешительность тамошних коммунистов. «Надо учить, учить и учить английских коммунистов работать, как работали большевики», — настаивал Ленин255. Подобная установка раздражала европейских коммунистов. «Неужели ничего нельзя извлечь из опыта движения, борьбы, революций в других странах, — спрашивал Зиновьева английский делегат конгресса Коминтерна, — неужели русские приехали сюда не учиться, но только учить?»256 Другой английский делегат Второго конгресса Коминтерна писал по возвращении: «Самым заметным обстоятельством здесь является абсолютная некомпетентность Конгресса, когда он берется диктовать правила британскому движению. Те тактические приемы, которые зарекомендовали себя полезными и успешными в России, привели бы к гротескным провалам, будь они применены здесь. Различие в условиях между этой высоко организованной, индустриально централизованной, политически устоявшейся и изолированной страной — и средневековой, полуварварской, (политически) разболтанной и политически инфантильной Россией никогда не станет доступно тем, кто не видел этого собственными глазами»257.
На практике западные коммунисты почти всегда подавляли свои сомнения и уступали желаниям Москвы, поскольку большевики завоевали себе не сравнимый ни с чем престиж, став во главе единственной успешной революции. Чрезмерно колеблющихся и протестующих Ленин изгонял из Коминтерна. Так, например, ведущий немецкий коммунист Пауль Леви, предупреждавший Москву, насколько опасна может оказаться попытка устроить путч в его стране, был в апреле 1921 г. объявлен «изменником» и изгнан и из компартии Германии, и из Коминтерна. Он подвергся наказанию не оттого, что оказался неправ, — даже Ленин признал, что он дал ему хороший совет, — но потому, что нарушил субординацию. [Drachkovitch M.M., Lazitch В. The Comintern: Historical Highlights. New York, 1966. P. 271–299. Леви кончил самоубийством в 1930 г.]. Таким образом критиков заставляли замолчать, но это не избавляло от повторения ошибок.
Анжелика Балабанова возлагает основную вину за неудачи Коминтерна на самого Ленина и принятую им линию руководства. Настаивая на безусловном подчинении, он отпугнул от движения истинных, склонных к независимости суждений революционеров, и их место заняли карьеристы, единственным навыком которых было повиновение. Ряды Третьего Интернационала стали быстро разрастаться от притока негодяев и интриганов, да и глава его, Зиновьев, был не лучше других — о нем Балабанова пишет, что после Муссолини это был «самый низкий человек», какого она только знала258. Относясь к ленинской «привычке избирать себе сотрудников и доверенных лиц именно вследствие их слабостей и недостатков, а также на основании их сомнительного прошлого», она вспоминает: «Ленин не был ни слеп, ни безразличен к тому, какой вред личная непорядочность могла причинить движению. И тем не менее он использовал людей, представлявших собою отбросы человечества… Большевики… использовали любого, кто доказывал свою хитрость, беспринципность, способность быть "мастером на все руки", проникать всюду, рабски исполнять приказы начальства… Считая меня хорошим революционером, пусть и не большевиком, Ленин и его сотрудники были уверены, что я одобряю их методы: коррупцию с целью подрыва оппозиционных организаций, клевету на всех, кто оказывался склонен или способен к противодействию, объявление всех их действий бесчестными или вредными»259. Однако она не смогла одобрить этого и вышла из Коминтерна. Менее достойные остались.
К приведенным выше причинам можно добавить еще одну, четвертую, неуловимую по своей природе и потому трудно определимую. Она связана с «русскостью» большевизма. Отличительным качеством российского радикализма всегда был неуступчивый экстремизм, установка на «все или ничего», стремление «идти напролом», презрение к компромиссу. Это связано с тем, что до того, как захватить власть, российские радикалы — интеллектуалы, у которых почти не было последователей и практически не было возможности влиять на политику, — жили исключительно идеями, и только с ними отождествлялись. Подобных людей можно было встретить и на Западе, особенно среди анархистов, но там они оказывались в безусловном меньшинстве. Западные радикалы мечтали реформировать, а не разрушить, существующий порядок; российские, напротив, видели в своей стране мало достойного сбережения. Вследствие этих глубочайших различий в политической философии, вследствие русского нигилизма большевикам трудно оказывалось общаться с теми, кто сочувствовал им на Западе. С точки зрения русских, последние не были настоящими коммунистами. «Большевизм. Это — русское слово, — писал эмигрант-антикоммунист в 1919 г. — Но не только слово. Ибо большевизм в том виде, в тех формах и проявлениях, что кристаллизуется вот уже почти два года в России, есть явление исключительное, русское, нитями глубокими связанное с русской душой. И когда говорят о большевизме немецком, о большевизме венгерском, я улыбаюсь. Разве это большевизм? Внешне. Политически, может быть. Но без души своеобразной. Без русской души. Псевдобольшевизм»260.