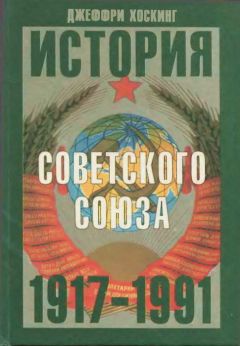Маленков был смещен с поста премьер-министра в феврале 1955 г. Пока он остался в составе Президиума, органа, которым в 1952 г. было заменено Политбюро и чей первоначальный многочисленный состав был сильно сокращен. Маленкова заменил Н.А.Булганин, генерал от политики, чей взлет совпал с падением Жукова в 1946 г. Из тех, кто окружал Сталина в самые страшные годы чисток, в составе Президиума оставались Молотов, Каганович, Микоян и Ворошилов. Нам не известно точно, о чем спорили они между собой, обсуждая, насколько можно будет открыть народу правду о сталинских преступлениях. Однако они ясно понимали накануне XX съезда, первого после смерти Сталина, что кошмар ответственности за всю совокупность сталинских преступлений навис над ними. Хрущев в своих мемуарах заявляет, что он призвал своих коллег чистосердечно рассказать о поведении партийного руководства в те годы. Это возможно, но не доказано. Однако то возражение, которое, по словам Хрущева, высказали Ворошилов и Каганович, действительно звучит правдоподобно. Они заявили, что их привлекут к ответу, что партия имеет право заставить их ответить за все, что творилось при Сталине. Далее они заявили, что, хоть они и были в составе высшего партийного руководства, даже они не знали всех ужасов, — и тем не менее их заставят отвечать за эти преступления.
В итоге было принято компромиссное решение. В прочитанном Хрущевым официальном докладе съезду о сталинских преступлениях не говорилось ничего. Но сразу же после официального окончания работы съезда состоялось специальное закрытое заседание. Это напоминало тот образ действий, который избрал в 1921 г. на X съезде Ленин для решения деликатного вопроса относительно партийной дисциплины. На закрытом заседании, куда делегатов съезда допускали по специальным пропускам, Хрущев произнес длинную речь о преступлениях Сталина, а также огласил завещание Ленина, которое его наследник утаил в 1924 г. По определению Хрущева, “культ личности Сталина” привел к целому ряду серьезных и тяжелых извращений “партийных принципов, партийной демократии и революционной законности”. Делегаты съезда слушали доклад Хрущева затаив дыхание. Сразу же после его окончания они покинули зал заседаний. Никакого обсуждения доклада власти не допустили. Речь Хрущева не была опубликована в Советском Союзе, но очень быстро получила огласку за границей, что объясняется присутствием приглашенных Хрущевым лидеров иностранных коммунистических партий. Вскоре она начала обсуждаться и на многочисленных партийных собраниях в самом СССР — на некоторых из них присутствовали и беспартийные. Так, например, происходило в университетах, да и вообще создается впечатление, что тем, кто хотел его услышать, не чинилось никаких препятствий. По меньшей мере некоторые лидеры партии не собирались держать в тайне “секретный доклад” Хрущева (именно под таким названием он получил известность). Тем не менее они не были готовы и к его широкой огласке.
Содержание доклада Хрущева также было компромиссным, поскольку, в силу необходимости, оно должно было соответствовать целям руководства партии, которое теперь разделилось. Хрущев датировал начало сталинских репрессий 1934 г., и таким образом оправдал всю предшествующую политику — разгром различных “оппозиций”, Шахтинское дело и все последующие процессы “спецов”, жестокости коллективизации. Более того: Хрущев обвинил в репрессиях только самого Сталина и руководителей службы безопасности и ушел от вопроса об ответственности за них — как о своей собственной, так и своих коллег в Президиуме! Таким образом, Хрущев ясно обозначил границы допустимой дискуссии по этому поводу. Он специально подчеркивал оправданность сверхбыстрой индустриализации, необходимость коллективизации, открещиваясь от политики, которая могла бы ассоциироваться с левой или правой оппозицией.
Основное внимание в секретном докладе Хрущева было сосредоточено на продолжительных по времени репрессиях против руководителей партии и государства и известных общественных деятелей. Почти каждый, кто был упомянут Хрущевым, принадлежал к высшим слоям номенклатуры. Если исключить упоминание о нескольких депортированных народах, он ни слова не сказал о простых рабочих, крестьянах и служащих. Совершенно недвусмысленно доклад Хрущева можно назвать мерой предосторожности, которую правящая верхушка предприняла с целью обезопасить себя от самого духа сталинской политики, который мог бы вдохновить кого-либо из наследников диктатора. По существу, Хрущев намекал на то, что Коммунистическая партия и — в особенности — ее Центральный комитет продолжали существовать совершенно отдельно и — конечно же — в условиях повышенной опасности, поскольку продолжали соблюдать “ленинские нормы партийной жизни”, несмотря на то, что диктатор их за это преследовал. Апелляция Хрущева к ленинским традициям показывала, что именно они являются программой на будущее. “Культ личности” предполагалось заменить “коллективным руководством”, так же строго предполагалось следовать и нормам партийного устава (т.е. регулярно должны были проводиться съезды и пленумы Центрального комитета), должна широко внедряться практика “критики и самокритики” и неукоснительное соблюдение норм Советской конституции и “социалистической законности”. Как мы увидим, Хрущев действительно по-своему пытался следовать этим нормам.
Речь Хрущева произвела настоящую революцию в умах советских людей (и это вовсе не преувеличение). То же случилось и в Восточной Европе. Это стало важнейшим и единственным фактором, сокрушившим ту смесь страха, фанатизма, наивности и “двоемыслия”, которая была человеческой реакцией на коммунистическую власть — в зависимости от личного темперамента, ума и положения в обществе.
Неудивительно, что в Восточной Европе, где корни сталинизма были пока слабы, речь Хрущева вызвала немедленную реакцию, принимавшую подчас насильственные формы. Наиболее сильным было возмущение со стороны рабочих, обманутых наследников “народных республик”, а также научной и творческой интеллигенции, постоянно волновавшейся под гнетом жестокой и монопольной идеологической ортодоксии. Напряженность стала нарастать с 1953 г., и особенно сильно после того, как Хрущев прекратил вражду с Тито, признав тем самым законность “различных путей к социализму”.
Польские интеллектуалы отреагировали первыми. Они начали возрождать клубы и дискуссионные группы, которые были столь характерны для довоенного времени. Особенно широкой известностью пользовался Клуб Кривого Круга[23], сложившийся вокруг молодежного журнала Po prostu (“Просто”). На встрече, организованной правительственным Советом по культуре и искусству, состоявшейся в марте 1956 г., поэт Антон Слонимский заявил: “Мы должны вернуть словам их первоначальное значение и чистоту… мы должны расчистить путь… от всей мифологии эры страха”.
В июне к интеллигенции присоединились рабочие. На промышленном предприятии ЗИСПО в Познани началась забастовка против повышения производственных норм, что для рабочих означало понижение реальной заработной платы. На демонстрации, направлявшейся к центру города, рабочие несли плакаты с надписями “свободы и хлеба” и “цены ниже, зарплату выше”. Но по пути к ним присоединились горожане, которые выступали уже под чисто политическими лозунгами: “Свободу кардиналу Вышинскому!” (глава Католической церкви в Польше) и “Долой советскую оккупацию!”. Демонстранты напали на здание радиоцентра (откуда глушились западные радиостанции) и на полицейский участок. В город были введены внутренние войска службы безопасности, после чего начались массовые столкновения. По официальным сообщениям, в них погибло пятьдесят три и было ранено около трехсот человек.
Эти убийства не только привели к забастовкам в других промышленных центрах, но также породили тяжелый кризис в самом партийном руководстве. Довольно значительная его часть заявила, что забастовки не были результатом “происков империализма”, как заявила официальная печать, но явились следствием ошибочной политики. Они требовали вернуть Владислава Гомулку, который в 1951 г. был арестован по обвинению в “титоизме”; в 1954 г. его тихо выпустили на свободу После суетливых визитов в Польшу высших советских руководителей Советский Союз, постепенно пришел к выводу, что это было бы наилучшим решением проблемы, более удачным, чем подавление волнений при помощи советских танков.
Программой Гомулки был “национальный коммунизм”. Этот термин подразумевал сочетание патриотизма (вплоть до дозволения сдержанных антирусских настроений) с поисками “особых путей к социализму”. Тут польский опыт имел кое-что общее с Югославией: крестьянам было разрешено выходить из колхозов и снова заняться земледелием на собственных небольших участках земли. На заводах решения администрации контролировались выборными рабочими советами. Тем не менее один фактор был специфически польским: речь идет о той степени свободы, которую получила Католическая церковь. Начиная с 1939 г., она “все больше и больше оказывалась в центре национальных и духовных устремлений народа. Одним из первых шагов Гомулки было освобождение кардинала Вышинского. По соглашению, которое было между ними достигнуто, государство гарантировало церкви право вести преподавание религии в школах по желанию родителей (такое желание изъявили практически все). Церковь в обмен на это согласилась признать легитимность социалистического государства и поддерживать его социальную политику в целом. Небольшая группа католических депутатов была допущена в Сейм (польский парламент). Эта фракция получила название “Знак” и стала единственной не находящейся под прямым контролем коммунистической партии фракцией во всех парламентах Восточной Европы.