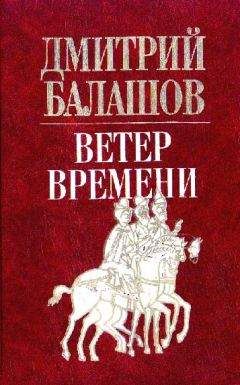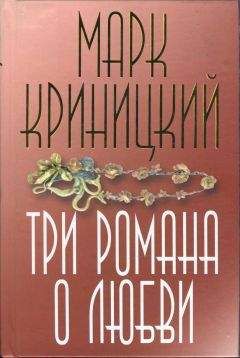Прошлое, совершавшееся некогда с ним и вокруг него, проходит сейчас пред мысленными очами инока, но уже видимое им как бы и со стороны, как бы и свыше, словно туда, в детские воспоминания свои, принесен он теперь по аэру на крыльях морозного ветра.
Метет. Мокрый снег залепляет глаза. Во взбесившейся снежной круговерти смутно темнеют оснеженные и вновь ободранные ветром, крытые дранью и соломой кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын то проглянет острыми зубьями своих заостренных кольев, то вновь весь скроется в воющем потоке снегов. Деревня мертва, оттуда все убежали в лес. Только здесь чуется еле видное шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячат по-за тыном широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх броней и байдан, кто с копьем, кто с рогатиной, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарскою саблей, с шестопером, а то и просто с самодельною булавою да топором, они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые, ибо что смогут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по-за лесом, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою полон и скот, вдруг пожалуют к ним, в пределы ростовской земли, на Могзу и Которосль? Недолго стоять им тогда в обороне! И счастлив останется тот, кого не убьют, а с арканом на шее погонят в дикую степь! Ибо татары громят и зорят все подряд, не глядя, тверская или иная какая земля у них по дороге. В Сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. «Давай! Давай!» Полон, обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, а семью – татарок своих – тоже надо кормить! Нещадно, с маху, бьет ременная плеть: «Бе-га-а-ай!» Спотыкающиеся, спутанные полоняники втягивают головы в плечи, бредут через сугробы, падают, встают, ползут на карачках, с хрипом выплевывая кровь, умирают в снегу. «Бега-а-ай!» Гонят стада скотины. Громкое блеяние, испуганный рев недоеных голодных коров, ржанье крестьянских, согнанных в насильные табуны коней тонут в метельном вое и свисте. Обезножевшую скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки, наглея, стаями бегут за татарскою ратью. Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжко падают вниз сквозь метель.
Пять туменов, пятьдесят тысяч воинов, послал Узбек громить мятежную Тверь, и с ними шли, верною обслугою хану, рати москвичей и суздальцев… Только в книгах о седой старине да в мятежных умах книгочиев была, сохраняла себя в те горькие годы былая единая Русь. О вы, великие князья киевские! О слава предков! О вещий голос пророков и учителей твоих, святая русская земля! Где ты? В каких лесах, за какими холмами сокрыта? В каких водах, словно Китеж, утонули твердыни твои? Иссякли кладези духа твоего, и кто приидет, препоясавший чресла на брань и труд, иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой и омоет и воскресит хладное тело твое? О Русь! Земля отцов! Горечь моя и боль!
За воротами боярских хором царапанье, не то стон, не то плач. Отворяется калитка, ратник бредет ощупью, выставив ради всякого случая ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож и натужась, волочит под мышки комок лохмотьев с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися посторонь. Баба! Убеглая, видно! Без валенок, без рукавиц…
– Тамо, – шепчет она хрипло, – тамо еще! – И машет рукою, закатывая глаза.
– Где? Где?! – кричит ратник ей в ухо, стараясь перекричать вой метели.
– Тамо… За деревней… бредут…
Распахиваются створы ворот. Боярин Кирилл в шубе и шишаке сам правит конем. Яков, тоже оборуженный, держит одною рукой боевой топор и господинову саблю, другою, вцепляясь в развалы саней, пытается, щуря глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра. Сани ныряют, конь, по грудь окунаясь в снег, отфыркивает лед из ноздрей, тяжко дышит; в ложбинах, где снег особенно глубок, извиваясь, почти плывет, сильно напруживая ноги.
Вот и околица. Конь пятит, натягивает на уши хомут. Чья-то рука тянется из белого дыма, чьи-то голоса не то воют, не то стонут во тьме. Яков, оставя оружие, швыряет людей, как дрова, в розвальни, кричит:
– Все ли?
– Все, родимый! – отвечают из тьмы не то детские, не то старушечьи голоса.
– Девонька ищо была тута! – вспоминает хриплый старческий зык. – Ма-ахонькая!
Конь, уже завернувши, тяжко бежит, разгребая снег, и внезапно, прянув, дергает посторонь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь – хороший боевой конь боярина – идет тяжелою рысью, изредка поворачивая голову, дико глядит назад…
В хоромах беглецов затаскивают в подклет: преже всего спрятать! Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень. Мечется пламя лучин в четырех светцах, дымится корыто с кипятком. Мария, со сведенными судорогой скулами, молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами и только бормочет: «Спаси Христос, спаси Христос, спаси… Спасибо тебе, боярыня!» Стонет, качаясь, держась за живот, старуха. Мечутся слуги. Сенные девки, нещадно расплескивая воду, обмывают страшную в бескровной выпитой наготе, потерявшую сознание беременную бабу. Голова на тонкой шее бессильно свесилась вбок, распухшие в коленях и стопах ноги, покрытые вшами, волочатся, цепляясь, по земле, никак но влезают в корыто.
Старший из боярчат, Стефан, путается под ногами людей, силясь помочь, хватает то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню.
– Живей! Ты! – кричит сорвавшимся, звенящим голосом мать. – Где горячая вода?! – И он, забыв искать холопа, сам хватает ведро и, как есть, без шапки, несется за кипятком.
Другой мужик в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые персты на ногах. Одна из подобранных женок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб…
Кирилл, весь в снегу, входит, пригибаясь под притолокою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени: «Снегу! Воды!» Девочка лет пяти-шести, не более (это та самая девчушка, что нашли у околицы), открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя, тоненьким хриплым голоском, цепляясь за руки боярыни, тараторит:
– А нас в анбар посадивши всех, а матка бает: «Ты бежи!» А я пала в снег и уползла, и все бежу, бежу! Тетка хлеба дала… Ото самой Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу и бежу… свойка у нас, материна, в Ярославли-городи!
Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя: «А я все бежу, все бежу…»
– В жару вся! – говорит мать, положив руку ей на лоб, и шепотом прибавляет: – Бедная, отмучилась бы скорей!
Стефан стоит, сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку и, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери?! Досюда? Столько брела? Такая сила жизни! И – неужели умрет?!
Мать молча задирает вонючую опрелую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти!» – договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стойно Стефану, шепчет про себя:
– Господи! Такого еще не видала! Унеси в горницу! – приказывает она сыну.
Стефан наклоняется над дитятей, но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает – с жалким всхлипом, не то воем закрывает руками лицо и бросается прочь.
Мать, натужась, сама подымает ребенка, и несет, пригибаясь под притолокою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугою одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки и в горницу прокрадывается младший, Варфоломей. Мария в темноте, уронив девочку на постель, долго бьет кресалом. Наконец трут затлел, возгорелась свеча. И тут, оглянувши в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно и, не давши ей открыть рта, сам предлагает:
– Поди, мамо! Я посижу с нею!
Мария, проглотив ком в горле, благодарно кивает, шепчет:
– Посиди! Скоро няня придет! Вот, – шарит она в глубине закрытого поставца, – молоко, еще теплое. Очнется, дай ей! – И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда, вниз, где ее ждут и где без хозяйского глаза все пойдет вкривь и вкось.
Девочка, широко открывши глаза, смотрит горячечно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам.
– А я все бежу, бежу… – бормочет девочка.
– Добежала уже! Спи! – говорит Варфоломей, словно взрослый. – Скоро няня придет! Хочешь, дам тебе молока?
– Молока! – повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломей осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и медленно, боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потея. Потом, отвалясь, показывает глазами и пальцем: «И ты попей тоже!» Варфоломей подносит чашечку ко рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей: «Выпил!» Девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать.