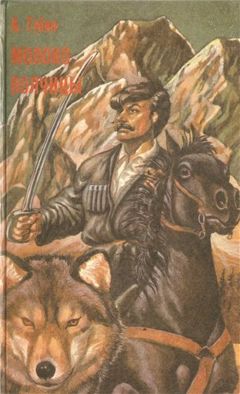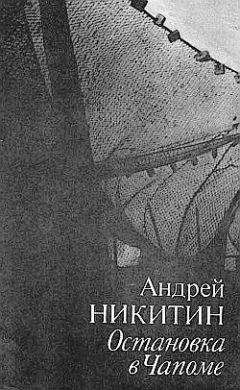Барин попался добрый. За зиму он дочерна прокуривал трубкой занавеси, с весны уезжал в мокрые розовые балки стрелять и вести потешные сражения с молодыми казаками. Шло время. Мария уже не убегала, не смотрела на вольных птиц и бабочек, давно освоилась в чужом доме, и час наступил — прониклась она тупой христианской добродетелью: господь терпел и нам велел. И отдающая более, нежели берущая, считала свою долю удачливой — так, ради нее полковник дал протекцию братцу Антону в юнкера. Кормили прислугу сытно, с одного стола. Работала с утра до ночи. Барышня, дочь барина, выучила девчонку читать и писать, а чтобы прислуживать высоким особам, научила французским фразам. Зимой, когда прислуга мыла полы, босые ноги примерзали к каменным ступеням. Но природа Марии крепкая. В тринадцать лет ей давали восемнадцать. Но природа — это и душа, а голубиную душу крепкой не назовешь.
Синенкины давно поправились, вернулся Сашка, юнкером стал Антон, а Мария по старой памяти прислуживала в господском доме. Платили хорошо, в праздники дарили корзиночку конфет или отрез ткани, в сундук с приданым. Барышня Наталья Павловна любила Марию особенно, спать с собой клала, восхищалась завистливо телом прислуги, в губы целовала. «Вот смола!» думала Мария о барышне; не умея по доброте души отказаться от прилипчивых ласк. Вместе они читали романы о любви, сочиняли шутливо-любовные записки в альбомном стиле. Старые платья барышни перешивали Марии. Однажды Наталья Павловна подарила прислуге шелковые рейтузы, привезенные из Петербурга, где полковничья дочь училась в академии художеств. Мария надела их с замиранием сердца, боясь грома небесного, — ведь по религии надеть женщине подобие мужской одежды грех великий. Увидев рейтузы, Настя «чуть в оморок не упала», порвала их на платочки, а девке задала порку. Покорливая девка временами упрямилась — тяготило христианское смирение, и опять носила «ведьмину сбрую». Это сильно будоражило станицу — девка напялила на себя штаны, должно, близок конец света! Многим хотелось посмотреть на такое бесстыдство. А бабушка Маланья так и поджигает: «Бери ее на цугундер, чего с ней списываться, раздевай ведьму!»
В четырнадцать лет Мария ушла из «волчьего дома». Работала на «заводе». Когда еще дикие кабаны хрюкали в кустах парка, а волчихи путались с станичными кобелями, открылся бабий промысел. Баб нанимали таскать из родников минеральную воду. О родниках докладывали еще Грозному царю, будто выпивший этой воды излечивался от ран и болезней, получал вторую молодость. Целебную силу воды знали и лейб-медики царя Петра. Детвора мыла бутылки. Ходила туда и Мария, спорая в работе. Как и ее старшие братья, она тянулась на «курс», к книгам, стихам, песням, картинкам, но в станице признавали только требы брюха.
Наталья Павловна стала художницей, любила рисовать казаков. Однажды, видно по злобе, тоже обидела Марию: г а д к и м у т е н к о м назвала и еще одним непонятным словом «готика». И вновь взялась за старое: попросила Марию раздеться у нее в мастерской догола, дескать, рисовать. «Тю, малахольная!» — спужалась девка и «быть моделью» — слово-то срамное отказалась. Черты лебедя в гадком утенке проступили не сразу, но острый глаз художницы их уже различал. Временами Мария казалась красивой, особенно, как открылось Наталье Павловне, в обнаженном виде. Одежда, любая, портила Марию. И вот за эту красоту одни очень любили ее, другие ненавидели — утки не любят лебедей, а куры журавля.
Как-то, возвращаясь с покоса, Глеб Есаулов въехал на коне в розовые от заката буруны Подкумка. Ниже купались голые бабы. Парень искоса посматривал из-за шеи коня на дебелых казачек. На мгновенье из воды вышла высокая, наливающаяся белой нежностью девка. Он не сразу узнал ее, а когда дошло, изумился казак:
— Тю, еще какая баба выйдет!
И долго преследовала его гибкая светлая тростинка с чернеющим лоном и чуть расставленными полными бедрами. Увидел в храме длинную желтую свечу с огоньком — опять вспомнилась старообрядская девка, стройный стебелек с солнечной головой.
З д е с ь н а ч и н а е т с я п е р в ы й р о м а н Г л е б а Е с а у л о в а и М а р и и С и н е н к и н о й.
Созрел кизил. Зоркий глаз Глеба-пастуха отметил это первым. Вечерами он возвращался с тяжелой сумкой, полной сладкого груза. Спрашивал мать о делах и радовался. Господа нарасхватки брали молоко у Есауловых и платили дороже. Вот как надо с умом жить. Без ума — рай. Он до звезды встает, а мужики Колесниковы спят до обеда да детей родят, приходит зима — зубы на полку. А он, бог даст, к зиме еще одну корову купит, шведскую.
Стадо задремало на стойле. Пастух пошел за кизилом. На желтых скалах, замшевых от изумрудных мхов и лишайников, текли слезы холодного ключа. Из соседнего орешника вышла Мария, босоногая, в яркой косынке, с господской корзиночкой для ягод и орехов. Следила, или нечаянно встретились, бог знает. А он, бездумно балуясь, забыл разницу веры, накрутил на руку пышную золотистую косу.
— Зачем ты? — покорно не противилась она, как ярочка в руках опытного мясника.
— Пошли полудновать, у меня харчи у воды.
Мария опустила голову — не может она вкушать православной пищи, грех, хотя Глеб и ел с ними на загоне.
— Ну грушу съешь, — уговаривал парень, — к Глуховым лазили вчера в сад. Глуховы-то вашенские.
Под прохладным навесом скалы, в тени волчьих папоротников ели: он пышку с молоком, она — грушу. Зеленые громады гор окружали их. Виделся им мир безлюдный, прекрасный, с одной верой. Птицы молчали. Чуть звенел живой ток воды. Нависали кизиловые ветви. Сквозь них был виден выжженный солнцем хребет, плыли величавые, как в сказках, облака, пахло отавой. Глеб сломил красную веточку, унизанную кизилом, связал концы и надел на шею Марии как монисто. Притянул ее голову в холодок и ни с того ни с сего поцеловал душные степные волосы.
— Чего ты? — припала она к его не по-юношески тяжелой, темной руке. Знала, отчего тяжела рука — от честной работы. Пока другие поставят копну, он успевал три. Особенно хвалила Глеба за ухватку Настя Синенкина. Желаешь встречаться? — пунцово залилась краской.
— Не желал бы, так не сидел рядом!
Она обомлела от его признания в любви. Задумался и он. Властно тянула к себе ее доброта, жертвенность, незащищенность характера, доступность, и он чувствовал солоноватый привкус острого наслаждения. Вместе с тем хотелось беречь, охранять ее для себя. Рядом с ней забывалось хозяйство, волновала красота гор, мир становился шире, а сердце добрее, богаче. И уже самому хотелось принести жертву, сделать ей приятное, отчего и самому вдвойне приятно жить.
Он смотрел на близкое небо, слушал ковыльный шум, падающий с бугра, думал о вечере. Ухажерка у него все-таки была, Февронья Горепекина по-станичному ее кличут Хавронькой. Круглолицая, с железными глазами Хавронька понравилась ему на поденщине — подростками нанимались делать кизяки. Глеб не отставал от самых бешеных баб, по девятьсот, по тысяче штук выгонял, но Хавронька обскакала его — делала более тысячи. С того и началась их дружба. Но род Хавроньки захудалый, никчемный, темный. И теперь пастух надумал: идти на посиделки на старообрядский кутан, к Марии, хотя там не миновать драки с кубековцами, поскольку он голопузовец молится без пояса. А Хавронька и живет далеко — на Сраном хуторе, худшей окраине станицы, где ютились старьевщики — «князья», мыловары, живодеры и золотари с зловонными бочками на телегах.
Мария не смела тревожить его разговором, незаметно трогала смоляные и уже с сединкой! — кудри, хотя сидеть ей неловко, нога занемела, будто иголки серебряные в ней. Коровы вставали, начинали расходиться. Встал и Глеб — делу время. Наполнил корзиночку Марии своим кизилом и проводил до Синенкина кургана — дедушка Моисей глину выкапывал там.
Кизиловое ожерелье Мария спрятала дома в сундучок, где вместе с приданым лежали сломанное кнутовище Глеба, его старая шерстяная варежка и орленые красной меди три копейки, что дала Марии мать Глеба за помощь в стирке у проруби.
С того дня Мария похорошела — любит! И неотвязно захотелось заглянуть в будущее: поженятся ли они?.. Вот, говорят, средство есть такое… И, зажав в ладони полтину, пошла за Подкумок, где над водой разбили шатры цыгане. За полтину гнула горб два дня над корытом с господским бельем.
Старый одноглазый цыган выковывает цепь на переносной наковальне. Кует ручной, цыганской кувалдой. В горне дымится рваный башмак, обломок плетня и пригоршня курного угля. Безобразная старуха в нижней юбке выжаривает над огнем свою рубаху — треск угля сливается с треском горящих вшей. Рядом, под телегой, молодые цыган и цыганка занимаются любовью. Под глиняными пещерами яра костры, перины, фантастические лохмотья бродяжьего скарба. Грудной курчавый ребенок в заскорузлой, вовек не стиранной рубашонке лежит на сырой земле и мусолит кусок мяса на кости. Зеленая собака с отрубленными для злости ушами и хвостом с лицемерной осторожностью отняла кость у мальчишки. Тот неистово заорал. Бойкий цыганенок лет пяти в женской кофте, с матерной бранью на украинском языке вырвал кость у собаки и старательно запихал ее в рот младенцу. Пегая лошадь в хомуте выедает траву из-под младенца, отпихивая его мордой к воде — вот-вот свалится в речку. На лошадь младенец не обращает внимания.