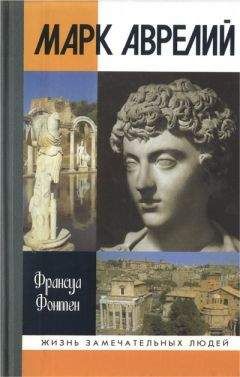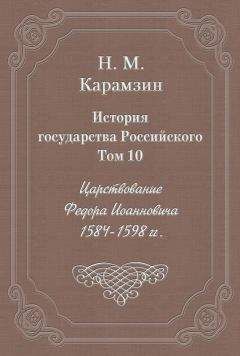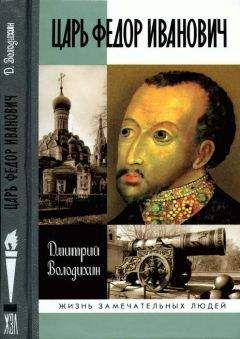ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СТАТУИ
Среди чудес мысли и словесности, спасенных от огня и крыс, есть и конная статуя, чудесно избежавшая переплавки и коррозии. Впрочем, кажется, что она от сотворения мира стояла на Капитолийском холме — там, где ее поставил Микеланджело. Хотел ли художник сделать ее символом Возрождения? Чем он руководился — великими планами или простым архитектурным планом? Оправа была создана для драгоценного камня или камень для статуи?
Вполне возможно, что на этом месте мог бы стоять и другой всадник, но этот был под рукой и девать его было некуда. Имя Марка Аврелия для того времени было не бог весть какой рекомендацией, а его бронзовое изображение несколькими поколениями ранее благомыслящие иконоборцы чуть было не отправили в печь.
Дело в том, что этот всадник в позе императора долгое время считался Константином, и как статую Константина в 1187 году поставил «Коня» Климент III перед базиликой Сан Джованни ди Латрано, называвшейся также Константиновой. Откуда ее взяли? По-видимому, первоначально она стояла на Старом Форуме рядом с аркой Септимия Севера. Согласно исследованиям Луазеля, в 545 году она была вывезена из Рима при его разграблении готским королем Тотилой, но Велизарий по дороге в Остию отбил ее. Вернулась ли статуя на Форум? Потом она мелькнула в винограднике около Святой Лестницы, куда ее перенес в XI веке антипапа с тем же именем Климент III. Наконец, в 1538 году папа Павел III Фарнезе дал Микеланджело разрешение поставить ее на Капитолии.
Статуя простояла там спокойно всего четыреста лет. В 1982 году ее состояние сочли аварийным. На самом деле еще в 1835 и 1912 годах предпринимались попытки ее реставрации. Можно ли будет современными методами, которыми с ней работают уже восемь лет, вернуть ей первоначальный вид, чтобы водрузить на место? Так или иначе, для аутентичности всегда не будет хватать третьей фигуры — коленопреклоненного варвара со связанными за спиной руками под копытом коня. Кто-то — может быть, и Микеланджело — рассудил, что это эстетически или нравственно неприемлемо. Образ Марка Аврелия от этого выиграл, но пострадала историческая истина, а потом и конская нога: она деформировалась.
Со статуей связаны странные легенды, как будто в нее переселились сомнения насчет самого императора. В 1616 году сенатору Орджо Альбато пришлось издать специальный декрет против тех, кто кидал в нее камни и грязь. Всего полвека спустя фигуру Марка Аврелия сняли с вершины колонны и поставили туда апостола Павла. Но конь остался волшебным. Римское простонародье верило, что «если конь станет золотым, значит, скоро конец света». Некая коллективная галлюцинация превратила косичку, заплетенную между конскими ушами, в сову, и люди говорили: «Когда ухнет сова, исчезнет Рим».
Марк Аврелий как писатель изучен весьма недостаточно: литературоведы отсылают к философам, а те его не слишком жалуют. Как римлянин, писавший по-гречески, он не привлек особого внимания ни латинистов, ни эллинистов. В антологии он не попал рядом ни с Платоном, ни с Сенекой. Поэтому создалось впечатление, что мысль его не слишком оригинальна, а стиль не из лучших; отсюда и неуклюжие оправдания мнимой неуклюжести слога: говорили, будто свои мысли он набрасывал в палатке в часы бессонницы, что это сырой материал для будущего произведения и т. п. Кроме того, замечают ученые, никто не может сказать, на каком языке он думал: ведь Марк Аврелий пользовался двумя одинаково родными языками — греческим для философии, по моде на эллинизм, латинским для народа и повседневной жизни в Риме. Он должен был поминутно переходить с одного языка на другой, так же как, по собственным словам, ему приходилось почитать «и мать, и мачеху» — придворную жизнь и философию (VI, 12). Но стоит ли вступать в подобные споры, нуждается ли стиль Марка Аврелия в оправданиях?
Нелегко судить об изначальной ценности произведения двухтысячелетней давности — ведь мы плохо знаем понятийные рамки того времени. Страшны, как мы все учили в школе, ловушки дословного перевода, но еще страшнее — смысловые искажения. А ведь мы, за исключением немногих специалистов, вынуждены читать греческих и латинских писателей на наших родных языках. Как мы можем быть уверены, что хорошо понимаем, что они хотели сказать; лучше ли они до нас доходят в несколько формалистических переводах классической эпохи или переделанные под современный стиль? Иначе говоря, где больше риск анахронизма?
Как ни поразительно, при современном состоянии классической филологии у нас нет ответа на этот вопрос. Семиотика, которая должна была бы стать ведущей дисциплиной исторических исследований, мало интересуется языком Сенеки и Марка Аврелия, которые кажутся обманчиво ясными. А между тем какие понятия стоят за привычными словами, под которые мы без проблем подставляем свои: libertas (свобода), gravitas (солидность), Fortuna (судьба)? Мы видели, как трудно перевести эпитет Pius, присвоенный Антонину, какие двусмысленности роятся вокруг «паратаксиса», в котором Марк Аврелий обвиняет христиан. На каждом шагу перед нами выбор и, может быть, предательский. Кроме того, мы плохо представляем себе, как откликались те или иные слова в картине мира римлянина, ибо мало изучили душу его общества, членом которого он был. Разве не ясно, что в этом обществе, заложником которого был человек, требования выживания племени еще смиряли сильные порывы индивидуализма, что торжествующей рациональности часто приходилось уступать магии?
При сравнительном исследовании наше внимание привлекут многие переменные — смотря по тому, какие эпохи и культурные процессы мы будем сравнивать. Время Марка Аврелия, как мы видели, служит прообразом прециозности XVII века, но оно же предвещает и энциклопедизм века Просвещения. Впрочем, его либерализм существует в контексте административного централизма и патернализма, которые мы обнаруживаем в мировых империях XIX века. Любое столетие Нового времени привязывало свою литературу, политическую мистику, архитектуру и символику к императорскому Риму, ссылалось на него. Кроме того, старались не забывать уроки Республики: постоянные искушения цезаризма и соответствующие им тираноборческие мифы — все это и есть возвратная лихорадка минувших веков. Сколько же идеограмм записано в нашу коллективную память, сколько всего приспособлено к обстоятельствам, изменяется вместе с языком!
Эти перемены и могут нарушить правильную передачу образов. Если облик Марка Аврелия дошел через века неизменным, если его «Размышления» всегда казались актуальными и животворными — то это потому, что его стиль чрезвычайно выразителен, а мысль убедительна.
И его секрет не стоит искать далеко. Он в искренности постановки вопросов нравственности, который ясен уже на самом первом уровне. Автор не блуждает, а постоянно идет по собственному следу, употребляя все средства прямой и настоятельной диалектики. Он не заботится о блеске, иногда повторяется, но если взглянуть поближе, то каждое новое доказательство одной и той же идеи привносит что-то свое, нажимает на какую-то новую точку. Никакие рассчитанные эффекты не увлекли бы читателя больше, чем эта спонтанная речь, которая хочет отнюдь не понравиться, а принудить к согласию.
Конечно, Марк Аврелий не мог избавиться от влияния своих многочисленных наставников. Фронтон и Герод Аттик тяжелой рукой вбили в него правила софистики, в частности, постоянное употребление сравнений. От них он перенял некоторые недостатки, например, тот, в котором упрекает его Жюль Ромен: «Ни одной фразы без редкого или трудного, во всяком случае чуждого общему употреблению слова». Но скорее здесь надо усматривать скрупулезное стремление к точности. «Осознавать, что говорится — до единого слова… Уловить обозначаемое» (VII, 4) — такая точность велит автору докапываться до корней слов и не бояться архаизмов, которые ввел в моду еще Адриан. Впрочем, изысканность, которую мы видели в переписке с Фронтоном, исправляется под влиянием Рустика: «Отошел от риторики, поэзии, словесной изысканности… письма я стал писать простые, наподобие того, как он писал моей матери из Синуессы…» (I, 7).
Может быть, он не во всем следовал урокам простоты Рустика, но уж точно от него он получил книгу Эпиктета, а через нее — сильнейший отпечаток этого мэтра стоицизма. Здесь мы не будем перечислять позиции философского учения, взятые Марком Аврелием у Эпиктета: тогда пришлось бы дойти до истоков системы (ведь Эпиктет тоже не был ее создателем). Стоическая философия в Риме утратила трансцендентность, довольствовалась самой общей метафизикой, откуда выводила до предела упрощенные правила личного поведения. Это поведение подчинялось нескольким предписаниям здравого смысла, но еще требовалось, чтобы они возобладали над всеми блужданиями чувств и ума. Человека следовало не увлечь радужными перспективами, а кратчайшим путем ввести внутрь самого себя, чтобы там он встретил наилучшего вождя — «гения» своей личности.