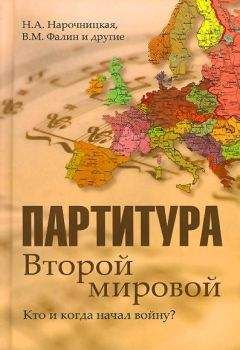Практически неизвестная широкой публике во Франции, в России Н.А. Нарочницкая пользуется бесспорным авторитетом: она была депутатом Думы от партии «Родина» и заместителем председателя Комитета по иностранным делам, она, в первую очередь, – историк, доктор наук, член Академии наук и дочь академика, тоже специалиста по международным отношениям. Н.А. Нарочницкая, кроме того, возглавляет политическое издание, где печатаются известные обозреватели и публицисты, стремящиеся донести голос России далеко за ее пределы.
И именно с позиции защитника идеи Родины – как говорят, единственной ценности, которая есть у тех, кому больше нечего терять, – она обращается к своим российским и зарубежным читателям.
Как показывает заглавие книги, выход которой был приурочен к шестидесятой годовщине победы над нацистской Германией, ее повествование касается в основном проблематики «Великой Отечественной войны» и подъема патриотизма, вызванного празднованием победы над фашизмом. Но, как истинный профессионал, автор этим не ограничивается и попутно затрагивает массу смежных тем, начиная с очень давних отношений между Россией и Западом, почти сразу же отмеченных недопониманием, а то и стойким антагонизмом, о проявлениях которого представляется важным вкратце упомянуть далее.
Не заостряя слишком внимание на расколе 1054 года, разделившем христианский мир на две части, остановимся лишь на четвертом крестовом походе и разграблении Константинополя крестоносцами. Этот факт забыт сегодня на Западе, но не в православном мире, где память о нем жива еще и потому, что события эти надолго ослабили «второй Рим», как называли тогда Константинополь, и способствовали его окончательному падению в 1453 году, а вместе с ним и Византийской империи.
К тому времени Московское княжество, единственное независимое православное государство, провозглашается местными богословами «третьим [и последним] Римом» и начинает постепенно утверждаться как православная твердыня, противопоставляющая себя римско-католическому Западу, недоверчиво наблюдающему, как Москва медленно набирает мощь, но затем сталкивается на своем пути с польско-литовским католичеством, сумевшим с началом Смуты, в 1610 году, захватить столицу. Приход династии Романовых (1613) позволил Московии вновь начать поступательный подъем, который при Петре Великом (1689–1725) и Екатерине II (1762–1796) увенчался стремительным взлетом, не примирившим ее, впрочем, с западноевропейскими державами, единодушными в своей оценке молодой и быстро развивающейся Российской империи, считая ее «варварской» и полуазиатской страной, где жизнь человека не представляла большой ценности.
«Избавьтесь от дурной славы, бытующей среди иностранцев о вашем народе», – говорил еще архиерей Феофан Прокопович, советник Петра I, своему государю, отличавшемуся жесткостью своих методов, едва ли украшавших империю, где уже и без того процветало крепостничество. И даже «философ на троне» Екатерина II не смогла коренным образом улучшить репутацию империи, которую в 1768 году в своей «Инструкции» она называет не иначе как «европейской державой». Не считал ее таковой и Дидро, сравнивая Россию с «белой страницей, на которой еще ничего не написано, страной без устройства и институтов» и соглашаясь с мнением экономиста Лемерсье де Ла Ривьера, согласно которому Россия являлась «страной, где нужно делать, а точнее, переделывать буквально все». Северной Семирамиде, как называл Екатерину II Вольтер, оставалось только сетовать на предвзятое отношение со стороны иностранных наблюдателей, но ситуация от этого не менялась.
Россия, как показывает «Путешествие в Сибирь» Шаппа д’Отроша (и многие другие работы), по-прежнему оставалась синонимом бесправия, деспотизма, рабства, жестокости и невежества.
Эта репутация останется за ней и несмотря на успехи Александра I, который не только победил Наполеона во время освободительной Отечественной войны, дойдя до самого Парижа, но и снискал настоящую популярность своими выступлениями в защиту Франции на Венском конгрессе. Однако восстание декабристов, омрачившее приход к власти Николая I, бескомпромиссного поборника права престолонаследия, и жестокое наказание этих «закоренелых преступников», никак не могли способствовать улучшению репутации империи. Как раз в это время, пишет автор, прусский певец государства Гегель, в свою очередь, высказываясь о славянских народах и России, отказывает им в каком бы то ни было вкладе в цивилизацию и, как следствие, в праве на какую бы то ни было историческую самостоятельность; то же позже сделает и Чаадаев, друг декабристов, в своем первом «Философском письме», опубликованном в 1836 году, где он уподобляет всю историю православной России «мрачной и унылой пустоте».
Своеобразной точкой в этой общей дискредитации России явился известный труд маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», написанный им после шести недель пребывания при императорском дворе и общения в узком кругу привилегированных особ, где он рисует крайне отрицательную картину империи, целиком находящейся во власти цензуры, полицейского шпионажа, сокрытия, лжи и притеснений.
Во всех этих разоблачениях, которые в той или иной степени отражали явное чувство превосходства либеральных и парламентских режимов Западной Европы, далеко не все было преувеличением, но Николаю I, казалось, даже доставляло удовольствие всячески поддерживать такие антироссийские предубеждения. Не ограничившись жестоким подавлением польского восстания в 1830–1831 гг., он помогает молодому Францу-Иосифу подавить революцию 1848 г. в Вене и, получив прозвище «жандарма Европы», в 1849 г. – венгерское восстание, руководители которого были потом повешены в Австрии, несмотря на обещания русских генералов сохранить им жизнь.
Крымская война положила конец карьере «жандарма», жестоко высмеянного в карикатурах Гюстава Доре; но «кнутократический» режим Николая I (названный так Бакуниным) способствовал еще большей дискредитации России в глазах «цивилизованной Европы», лишь усугубив и без того нелицеприятную картину империи с ее деспотизмом, шпионажем, невежеством и реакцией. Это позволило в дальнейшем Марксу, чья враждебность по отношению к неблагодарным германскому просвещению славянским народам с годами только усиливалась, назвать Российскую империю «тюрьмой народов» (прежде всего польского), высказав немало и других нелестных суждений на ее счет.
Враждебность эту будет разделять и его сподвижник Фридрих Энгельс, пишет далее автор книги, приводя цитаты различных его антиславянских и откровенно расистских заявлений, на которых было основано целое учение, ставшее позже отправной точкой для Гитлера.
Сдержать рост и отбросить назад – вот к чему всегда сводилась политика европейских держав в отношении «полуварварской», «азиатской» империи, и Парижский договор (1856), положивший конец Крымской войне и нейтрализовавший Черное море, запретив там строительство каких бы то ни было укреплений, является лишь подтверждением тому. Как, впрочем, и решение Берлинского конгресса летом 1878 г. о лишении России всех ее завоеваний в ходе Русско-турецкой войны за освобождение православных народов от османского владычества на Балканах. Встревоженные положениями договора Сан-Стефано, распространявшими сферу российского влияния до берегов Константинополя и Эгейского моря, европейские державы объединились в Берлине, чтобы помочь Порте в ее новом статусе хранительницы проливов; а сам конгресс, называемый иногда антиславянским ареопагом, навязав России свою волю, отбросил ее тем самым к прежним границам.
Все это говорит о том, что Россия никогда не рассматривалась как полноправное европейское государство или же как великая держава; она попросту продолжала играть роль выскочки, нарушительницы европейского равновесия. Ни ее вклад в наведение порядка в Европе, все же несколько преувеличенный автором, ни ключевая роль Николая II на конференции в Гааге в 1889 году по сокращению вооружения, ничто не изменило отношения к ней; Российская империя продолжала быть в глазах европейцев неудобным партнером, а ее слишком быстрый подъем и панславистские идеи вызывали замешательство и тревогу. То есть, другими словами, Россия представляла собой не очень надежного партнера, чьи амбиции необходимо было несколько умерить, тем более что, принадлежа Европе, она в действительности никогда не была ее частью.
Перейдем теперь к революции 1905 года, которую мы также, вопреки существующим на этот счет утверждениям, вряд ли можем считать европейской революцией, внезапно изменившей свое направление в силу полного отсутствия в России буржуазии как класса и несостоятельности либералов в отстаивании реформ, за которые они всегда так радели. Испытывая враждебность к царскому абсолютизму, но одновременно и страх перед мыслью о всенародном бунте, непрестанно витавшем в воздухе еще со времен Пугачева, они так и не сумели уйти от самодержавия, единственного, по их мнению, что могло бы предотвратить народный бунт, воспринимаемый как неизбежность. Очень малочисленные и без какой бы то ни было социальной опоры ряды либералов в действительности включали в себя лишь посвященных, не имевших ничего общего не только со всеми остальными «непосвященными» слоями общества, но и с другими изгоями цензовой России.