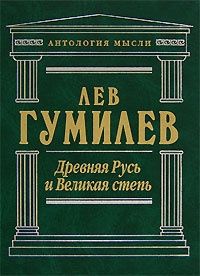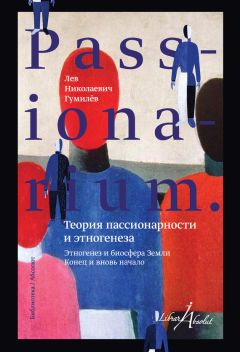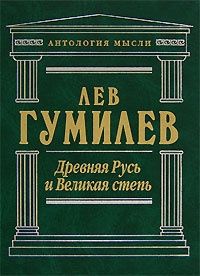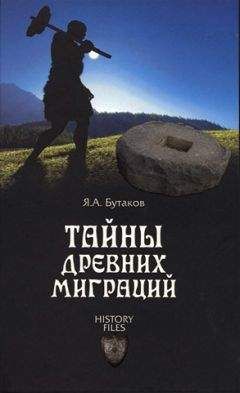Катары отождествляли злого бога — создателя мира с богом Ветхого Завета — Яхве, переменчивым, жестоким и лживым, создавшим материальный мир для издевательства над людьми.[670] Но тут средневековый христианин сразу задавал вопрос: а как же Христос, который был человеком? На это были приготовлены два ответа: явный для новообращаемых и тайный для посвященных. Явно объяснялось, что «Христос имел небесное, эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде… Он не имел надобности ни в чем земном, и если он видимо ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед сатаной, который искал случая погубить Избавителя». Однако для «верных» (так назывались члены общины. — Л.Г.) предлагалось другое объяснение: «Христос — творение демона: он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире, в небесном Иерусалиме».[671]
Довольно деталей. Нет и не может быть сомнений в том, что манихейство в Провансе и Ломбардии — не просто ересь, а антихристианство и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм. Однако если перейти от теологии к истории культуры, то вывод будет иным. Бог и дьявол в манихейской концепции сохранились, но поменялись местами. Именно поэтому новое исповедание имело в XII в. такой грандиозный успех. Экзотической была сама концепция, а детали ее привычны, и замена плюса на минус для восприятия богоискателей оказалась легка. Следовательно, в смене знака мог найти выражение любой протест, любое неприятие действительности, в самом деле весьма непривлекательной. Кроме того, манихейское учение распадалось на множество направлений, мироощущений, мировоззрений и степеней концентрации, чему способствовали в равной мере пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра, и оправдание лжи, с помощью которой они не только спасали себя, но и наносили своим противникам губительные удары.
Ради успеха пропаганды своего учения катары часто меняли обличье, проникая в города и села то как пилигримы, то как купцы, но чаще всего как ремесленники-ткачи, потому что ткачу было легко попасть на работу и завязать нужные связи, самому оставаясь незамеченным. Это не классовое антифеодальное движение масс, а маскировка членов организации, объединенной «властью манихейского „папы“», жившего, как говорили, в Болгарии.
Альбигойское учение для массы допускало коварство и обман в вопросах веры и не предписывало страданий за религиозные убеждения. То сливаясь с католиками, то выделяясь из них, катары не давали выследить себя… Потому-то в католических институциях потребовалось отдельное учреждение, которое давало бы возможность отличить католиков по необходимости от католиков искренних.[672]
Пока дуалистическое учение, точнее — натурофобия, было пищей для умов крайне высокого уровня, оно оставалось безвредным для географической среды. Мечтатели и мыслители, пытавшиеся найти непротиворечивое понимание бытия, вызывают у читателя искреннее сочувствие. Когда мы читаем о том, что в 1022 г. клирики католической церкви в Орлеане — духовник короля Роберта и королевы Констанции Стефан, схоластик Лизой и капеллан одного нормандского дворянина, Арефаста, Гериберт — были преданы упомянутым Арефастом, который, притворившись сторонником ереси, обманув доверие мыслителей, донес на них королю и выступил на суде свидетелем обвинения, наши симпатии лежат на стороне жертв предательства. Доверчивые мечтатели были сожжены, но эта жестокая мера была осуждена многими князьями церкви. Епископ люттихский Вазон высказался по поводу репрессий так: «Бог не хочет смерти грешника, но его раскаяния в жизни. Он не спешит судить его, но ожидает с терпением. Епископы должны подражать примеру Спасителя… Вместо того чтобы предавать еретиков смерти, следует ограничиться тем, чтобы исключить их из общения с верными, а этих последних охранять от их влияния» (1043—1062).[673]
Последнее осуществить не удалось. Гностическое учение привлекло на свою сторону многих французских и бельгийских аристократов и массу простолюдинов. В XI в. моральное разложение церковников сопрягалось с веротерпимостью, хотя последняя была плодом отнюдь не милосердия, а лени и равнодушия к делу служения. Стремление прелатов иметь помощниками людей бездумных и безынициативных вело к тому, что многочисленные пассионарии искали прибежища в сектах, а субпассионарии были для церкви тяжелым балластом. Ничем хорошим это кончиться не могло.
Когда под влиянием соседних культур в этнической системе происходит раскол поля, то в образовавшуюся щель, как в открытую рану, вползают вредоносные «бактерии» и мешают естественному заживлению. Это общее правило, и так было в Европе XI—XII вв.
Началось с Испании. В 1031 г. пал Омейядский халифат, оплот иудеев на Западе. Сменившие арабских халифов «вожди племен» (Мулюк аттава’иф) отнюдь не были расположены к фаворитам низвергнутой династии. Исключением была лишь Гренада (Гранада), которую тогда называли «еврейским городом»,[674] а от прочих мусульманских правителей евреи бежали в Кастилию. Там их охотно приняли, ибо Реконкиста была в разгаре и испанцы нуждались в пополнении войск и городского населения. Евреям были предоставлены многие важные привилегии, в том числе право гетто. Это была очень большая уступка, ибо на кварталы, имевшие право гетто, законы королевства не распространялись: жившие в гетто евреи судились по своим законам, своими судьями, что давало им фактическую безнаказанность за преступления против христиан и за пропаганду скептицизма, подрывавшего веру в христианские догматы.
Примеру кастильских королей последовали французские — Людовик VII и Филипп Август, а вслед за ними арагонские, английские, сицилианские и другие венценосцы. В результате общее настроение тогдашнего общества было «далеко не христианским, а скорее скептическим и индифферентным».[675] Сопротивление властям оказывали только свободные крестьяне, сельское духовенство и мелкие феодалы, но руки их были связаны нависшей над ними ересью, представители которой в XII в. перешли от слов к делам, пользуясь поддержкой королей.
С X по XIII в. учение катаров и патаренов развивалось беспрепятственно. В Италии, где феодалы были в угнетении, патарены держались в городах. Около 1163 г. в Милане патаренов было больше, чем католиков, да и активность их была выше — так, в соборе во время проповеди был убит архиепископ. В 1184 г. Верона была полна патаренов, так что изгнанный папа Лючай II не нашел в ней убежища, а в городе Сполето преобладали католики, кричавшие: «Смерть патаренам и гибеллинам!»,[676] Из городов, где этот лозунг удавалось осуществить, патарены бежали во Францию или в Тулузу, потому что у графов Тулузы все высшие должности находились в руках евреев[677] оказывавших покровительство катарам. И не надо забывать, что к XII в. дворянство Лангедока и Прованса состояло из потомков крупных землевладельцев, купивших латифундии в IX—X вв., т. е. богатых еврейских работорговцев-рахдонитов, своевременно перешедших в католичество. Обратившись в новую веру, эти дворяне, потомки купцов, называвшие себя ткачами, вели себя все более активно. В «Анналах» Барония под 1183 г. описаны «котерелли», действовавшие во Франции таким образом: «Они поджигали храмы, ловили священников и благочестивых людей, водили их с собой, мучили и при этом со смехом им говорили: „Пойте, пойте, певцы!“ Эти слова сопровождали оплеухами и ударами толстыми палками. Те же „котерелли“ грабили церкви, со злобой выкидывали тело Господне из золотых сосудов на землю и растаптывали эту святыню ногами».[678] По существу, в этой записи содержится описание инкубационного периода альбигойской войны, которая началась задолго до того, как был объявлен призыв к Крестовому походу на еретиков. И как всегда, поиски виновного в развязывании войны не дают результата.
Итак, Западная Европа в XI—XII вв. была куда менее монолитна в культурном, религиозном, политическом плане, нежели в веке XIX. Удивляться нечему. Развитие цивилизации — это процесс уравнивания, подобный тому, что осуществлял в Древней Элладе покойный Прокруст. На популяционном уровне этот процесс затягивается до 1200 лет. Так, если отбросить от нашего времени 800 лет, легко представить мозаичность средневековой Европы. Это был «век самоуправства и беззакония».[679]
Ну вот и ответ на вопрос, поставленный выше. Чтобы примкнуть к Западу, надо было решить: к какому? К альбигойцам Тулузы? К папам Рима и их союзникам, вскоре названным вельфами (в Италии — гвельфы)? К императорам, копившим награбленные богатства в замке Трифельс? Вот каков был выбор, ибо такие провинциальные городки, как Париж, Лондон, Толедо, Барселона, в счет не шли.