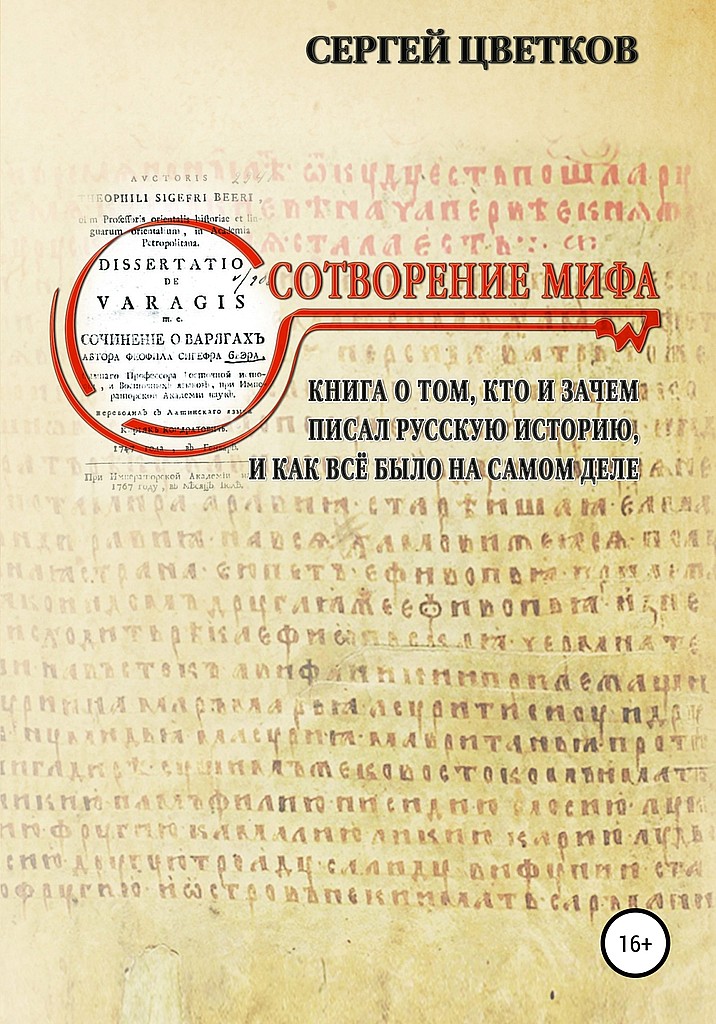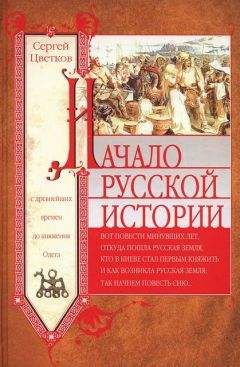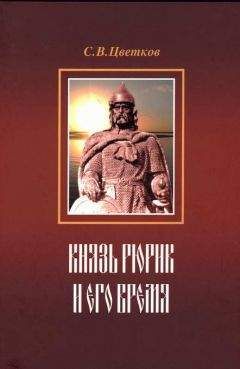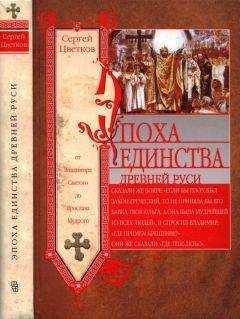Гавриил Петрович Мешетич противопоставляет мёртвую тишину в лагере русских, приготовившихся «к падению за Отечество», суматохе в лагере неприятеля, который «ночь провёл в шумном веселии, увеличил огни»:
«Россияне начали приготовляться к падению за Отечество молитвою, утро было проведено в церковной палатке, поставленной в центре армии, в слушании литургии и в знаменовании в чудовный образ Божией Матери Смоленской, привезённой армиею с собою из Смоленска, и почти до вечера входило к ней на поклонение всё воинство. Неприятель этот день провёл в некоей суматохе, колонны с артиллериею переходили с места на место, стрелки то открывали огонь, то стихали, вообще заметно было некое волнение; с вечера почти и всю ночь провёл в шумном веселии и кликах, увеличил огни и на левом их фланге выставил даже ярко пылающий маяк. Русской же стан ночь покрыла мёртвою тишиною, даже огней подле их бивак видно не было» [50].
Подобный же контраст между «расположением духа обеих сторон» отражён в записках А. Н. Муравьёва — будущего декабриста, а в то время офицера арьергарда 1-й Западной армии:
«25 августа был день покоя, для нас и для французов, день торжественный, в который обе неприятельские стороны готовились к ужаснейшему бою на следующий день. Кое-где, вдали и впереди, слышна была пушечная пальба, и, по словам некоторых, это были картечные выстрелы, пускаемые, собственно, налицо Наполеона, объезжавшего и осматривавшего расположение своего войска и нашего, где это возможно ему было… Мы, со своей стороны, были довольно покойны; наши главнокомандующие Барклай и Багратион объезжали и поверяли также своё расположение и переставляли, где нужно оказывалось, разные части своих войск. Но разительно было расположение духа обеих сторон: неприятель, возбуждаемый прокламациями своего вождя, разложил большие огни, упивался чем кто мог и кипел против нас яростью; наши же, напротив, также озлобленные на французов и готовые наказать их за нашествие на Отечество наше и разорение, ими причиняемое, воздерживались, однако, от излишества в пище и питьё, которого было у нас много поблизости от Москвы, и молили Бога о подкреплении их мужества и сил и благословения в предстоявшей отчаянной битве. Князь Кутузов велел по нашим линиям пронести икону Божией Матери, спасённую войсками из Смоленска. Повсюду служили перед нею молебны, чем возбуждалось религиозное чувство в войсках…» [51].
Послушаем и Фёдора Николаевича Глинку, адъютанта генерала Милорадовича («Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе)»):
«После дня, слегка пасмурного, и вечера, окроплённого холодноватым дождём, после жаркой целодневной перестрелки за право пить воду в Колочи настал тёмный холодный вечер, настал канун битвы Бородинской. Из всех явлений 1812 года канун Бородина сохранился, конечно, у многих в памяти. Все ожидали боя решительного. Офицеры надели с вечера чистое бельё; солдаты, сберегавшие про случай по белой рубашке, сделали то же. Эти приготовления были не на пир! Бледно и вяло горели огни на нашей линии, темна и сыра была с вечера ночь на 26-е августа; но ярко и роскошно чужими дровами освещал себя неприятель.
Удвоенные костры, уставленные в несколько линий, пылали до самого Колоцкого монастыря. Эти не наши огни, стоя огненными полками, сквозили сквозь чащи лесов и кустарников, румянили наше небо и бросали какой-то кровавый отблеск на окрестности ямистые, тёмные.
Рокот барабанов, резкие звуки труб, музыка, песни и крики несвязные (приветный клик войска Наполеону) слышались у французов. Священное молчание царствовало на нашей линии. Я слышал, как квартиргеры громко сзывали к порции: „Водку привезли; кто хочет, ребята! Ступай к чарке!“ Никто не шелохнулся. По местам вырывался глубокий вздох и слышались слова: „Спасибо за честь! Не к тому изготовились: не такой завтра день!“ И с этим многие старики, освещённые догорающими огнями, творили крестное знамение и приговаривали: „Мать пресвятая Богородица! помоги постоять нам за землю свою!“ К утру сон пролетел над полками».
P. S.
Шумное, праздничное настроение во французском лагере отмечается и очевидцами с «той» стороны:
«У нас царила шумная радость, вызванная мыслью о битве, исход которой никому не казался сомнительным. Со всех сторон перекликались солдаты, слышались взрывы хохота, вызываемые весёлыми рассказами самых отчаянных, слышались их комически-философские рассуждения относительно того, что может завтра случиться с каждым из них. Горизонт освещали бесчисленные огни, довольно беспорядочно разбросанные у нас, симметрично расположенные у русских вдоль укреплений; огни эти напоминали великолепную иллюминацию и настоящий праздник» [52].
Однако, кажется, никто из французских участников битвы не оставил описания русского лагеря (кроме мимолётных замечаний).
В Лондоне хорошо, а на Дону лучше
После победы над Наполеоном большой знаменитостью в России и заграницей был донской казак Александр Григорьевич Землянухин [53] (иногда его фамилию пишут как Зеленухин) из Нагавской станицы. Свою службу он начинал ещё с Суворовым, вместе с которым он катался по крутым швейцарским горкам, но слава настигла Землянухина уже в 60-летнем возрасте. К тому времени он был награждён орденом св. Георгия Победоносца и многими медалями, в том числе заграничными. Вместе с ним служили двое его сыновей.
В марте 1813 года Александр Григорьевич Землянухин был послан из Гамбурга к русскому посланнику в Лондоне графу Ливену. В его лице англичане чествовали всех славных сынов Дона, о которых имели весьма смутное и романтическое представление. Несколько тысяч англичан, собравшихся на пристани, встретили его восторженным криком: «ура, казак!» Эти возгласы сопровождали Землянухина во время всего пребывания в Лондоне. На улицах ему беспрерывно жали руку и пытались делать подарки. Но от денег казак отказывался, говоря: «Наш батюшка царь наделил нас всем, мы ни в чём не нуждаемся, сами в состоянии помогать бедным. Спасибо за ласку вашу!»
Таково было приказание атамана Платова — отказываться от всех английских подарков, у нас-де самих всего достаточно. Эти слова Землянухина были приведены во всех английских газетах, после чего уже никто не предлагал ему денег. Землянухин не принял даже от принца-регента тысячи фунтов стерлингов, около 24 тысяч рублей на русские ассигнации — целое состояние по тому времени.
Землянухина возили в театр, где он сидел в парадной ложе между первыми сановниками; в антрактах