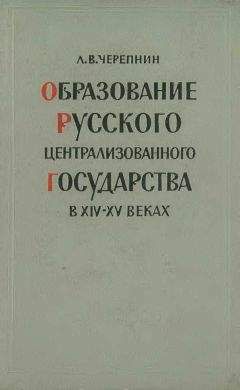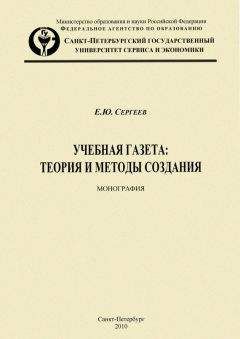Из последующих жалованных грамот митрополитов Зосимы, Симона, Даниила (1490–1522) [976] вышеназванным бортникам, их товарищам и сыновьям видно, что население бортничьей слободки пополнилось не только в силу естественного прироста, но и потому, что Семен Улыбашев и Оладья Гаврилов использовали свое право призыва других крестьян в основанный ими промысловый поселок. Пустоши, которыми «пожаловал» митрополит Геронтий бортников, превратились в деревни, т. е. были заселены и застроены. В связи со всем этим кафедра повысила взимаемый с бортников оброк.
То обстоятельство, что бортники пользовались податными и судебными льготами, вызывало протест со стороны крестьян Владимирского уезда, которые добивались (и одно время добились) приписки их в тягло. Но в 1522 г. митрополит Даниил вернул бортникам иммунитет («а что их зарецкие мои христиане приписали в тягло в своей грамоте, и та на них грамота не в грамоту»)[977].
Приведенный материал дает возможность проследить конкретно образование промысловых поселков.
Поселки бортников создавались, как можно думать, и во владениях Троице-Сергиева монастыря. От второй половины XV в. в монастырском архиве сохранилась запись о покупке монастырем в Гороховецкой волости Владимирского уезда урочища Лушка «с лесом с бортъным» (в котором было «выделано бортей и старых и новых полторы тысячи») и в Ярополческой волости того же уезда — сельца Перова с «бортным лесом» стоимостью в восемь рублей[978]. К сожалению, о том, как велась эксплуатация этих угодий, данных в нашем распоряжении нет. Можно думать, что в указанных вотчинах Троице-Сергиева монастыря имелись такие же бортничьи деревни, как и на землях, принадлежавших митрополичьей кафедре.
В Нижегородском уезде «бортным ухожаем» в лесу, расположенном и по горной, и по луговой сторонам Волги, владел Амбросиев-Дудин монастырь. До 1485 г. с «ухожая» взимался казенный оброк, который с этого времени по жалованной грамоте Ивана III был отменен, так как выяснилось, «что бортного деревья стало мало не весь высечен»[979]. И в данном случае материал, рисующий формы эксплуатации бортного промысла, отсутствует.
Зато такой материал сохранился по вотчинам Симонова монастыря. Около 1380–1382 гг. последнему достались в результате земельного обмена с великим московским князем Дмитрием Ивановичем церковь Спаса-Преображенья (в Московском уезде, на берегу Медвежья озера), два озера (Верхнее и Нижнее), пять «деревень бортничьих» «и з бортью, и с лесом, и з болотом, и с перевесьи» (т. е. с лесными участками, предназначенными для ловли птиц). Все деревни названы по именам крестьян-бортников, а одна из них именуется «Игнатьева Старостина Жижнева»[980]. Значит, бортничьи деревни в целом представляли собой общий поселок, а жившие там промышленники составляли объединенный коллектив, возглавляемый старостой.
Из грамот князей угличского Андрея Васильевича (1484) и волоцкого Федора Борисовича видно, что тому же Симонову монастырю принадлежали бортные леса в — Угличском и Ржевском уездах. В эти леса не могли «вступаться» княжеские «подлазники». Архимандрит же имел право завести для разработки бортных промыслов специальных бортников, число которых определялось количеством бортей («и колко бортей ни будет со пчелами»), и отвести им землю для поселения («а на той земле… посадит архимандрит бортников»)[981]. По своему социальному положению, судя по всему, бортники принадлежали к числу зависимых крестьян.
Приведем еще один пример из области организации бортничьих промыслов, относящийся к звенигородскому Саввину-Сторожевскому монастырю. В 1404 г. князь Юрий Дмитриевич отдал монастырю «борть свою по речки по Иневе…» в Подмосковье, а одновременно передал игумену «бортника Ондрейка Телицина, з деревнею, в которой живет… и он те борти монастырский делает»[982]. Бортник, о котором идет речь, мог быть и посаженным на землю холопом, и крестьянином. Но во всяком случае он специализировался на разделке деревьев с пчелиными ульями и на добыче меда. Деревня, в которой он жил, могла стать исходной точкой для возникновения более обширного промыслового поселка.
Бортничество — это один из видов промыслов, выделяющихся в специальную отрасль, в некоторых случаях уже мало связанную с земледелием. Другим видом крестьянских промыслов является рыболовство. «Рыболовли деревни» упоминают в своих духовных грамотах великая княгиня Софья Витовтовна (1481) и великий московский князь Василий Васильевич (1461–1462)[983].
Некоторые данные (правда, не всегда прямые) содержат о поселениях рыболовов документы Кириллова-Белозерского монастыря. В конце XIV — начале XV в. князь Андрей Дмитриевич «пожаловал» игумена Кирилла и запретил кому-либо из посторонних монастырю лиц ловить рыбу на озере, «которое озеро под монастырем». Исключение было сделано лишь старожильцам, «которые живут около озера»[984], т. е., по-видимому, крестьянам, для которых рыболовство стало профессией. В 40–70-х годах XV в. слободчик Жалобинской слободки Иван Щапов бил челом белозерскому князю Михаилу Андреевичу с просьбой разрешить ему поледную ловлю рыбы в озере Уломском, где находились рыбные промыслы Кириллова-Белозерского монастыря («Что озеро Оуломское ловит Касьян игумен з братьею на монастырь, ино ми бил челом з Жалобиньской слободки Ивашко Щапов слободщик о поледенъном, а хочет ловити на том озере на пол еденном»[985]). Можно думать, что Жалобинская слободка представляла собой промысловый поселок, жители которого занимались преимущественно рыболовством. То же самое, очевидно, можно сказать относительно жителей белозерских деревень Панкратовской, Васильевской Плавины, Вкемерья, вымененных Алексеем Афанасьевым у князя Михаила Андреевича. Неслучайно князь освободил крестьян этих деревень на три года от взноса «рыбного», получив за эту пошлину от Андрея Афанасьева единовременно пять рублей. «…И хто имет у Алешки в тех деревнях жити людей, и рыбники мои белозерские на Олешке и на его людех рыбного не емлют на три года, занежо то есми рыбное Алешке отдал в придаток за пять рублев»[986].
«Слободки», населенные рыболовами, находились на великокняжеских черных землях в Ржевском уезде. Так, московский великий князь Василий Дмитриевич передал Симонову монастырю право сбора оброка рыбою «со Вселуцкие волости 400 костоголова да с Кличенские волости 400 же костоголова на всякой год». Тот же князь отдал монастырю два озера в Ржевском уезде (Сороменце и Корогощ), «да и люди по обе стороны Сороменця» (как видна из документов, не холопов, а зависимых крестьян-рыболовов)[987].
Поселки рыболовов возникали во владениях Троице-Сергиева монастыря. Так, в 1432–1445 гг. княгиня Аграфена шехонская с детьми предоставила Троице-Сергиеву монастырю право «ез… бить» в Шексне и рыбу «ловити… двема неводы монастырьскыми» в Шексне и Волге[988]. В районе рыбных ловель возникли «слободки»[989].
Промысловый характер имел поселок московского Чудова монастыря — село Филипповское на реке Великой Шерне, где монастырю принадлежали «ловилища рыбьи» и где «опришние люди рыбы не лавливали никто, ни сежь не бивали»[990].
Рыболовы жили в деревне Медведкове и слободе Тимофееве в Кличенском уезде, принадлежавших Иосифову-Волоколамскому монастырю. По жалованной грамоте волоцкого князя Федора Борисовича 1500 г. монастырским крестьянам разрешалось ловить рыбу в озере Селигере двумя неводами и пятью керегодами. «А ловят где хотят, опроче моих тоней, а подлетчики мои на ловлю их не нарежают и пошлины своея на них не емлют»[991].
При наличии не оставляющих сомнения данных о том, что в ряде случаев рыболовство получало значение специальной отрасли крестьянских промыслов, надо сказать, что в целом его связь с земледелием оставалась еще достаточно тесной. Так, например, в одной записи второй половины XV в. указаны рыбные промыслы Троице-Сергиева монастыря на реке Клязьме, выше Гороховца, и расположенные в районе Гороховца монастырские деревни, крестьяне которых, очевидно, были заняты на промыслах. Характерно, что это были пашенные крестьяне[992].
В условиях известного подъема земледелия (о чем речь шла во второй главе) приобретало большое значение мельничное дело (устройство и эксплуатация мельниц). «Мельницы» и «мельники» довольно часто упоминаются в документах. При земельных тяжбах мельницы являлись одним из объектов спора[993]. Использование мельниц, требовавшее определенных технических навыков, было предметом правительственных «дозоров». Так, в 60–80-х годах XV в. дьяк Семен Васильев по приказу Ивана III осматривал на месте мельницы Симонова и Петровского монастырей, поскольку к великому князю поступила жалоба, что «петровской мельник» «подпруживает Симоновскую мельницу, воду держит не по мере». В результате обследования было установлено, что «Петровская мельница Симоновскую мельницу потопила». Тогда дьяк велел «Петровской мельнице… воду спустити» и распорядился, чтобы в дальнейшем вода поддерживалась на уровне специально забитого в пруд перед трубою кола. Нарушение этого постановления должно было повлечь за собой штраф[994].