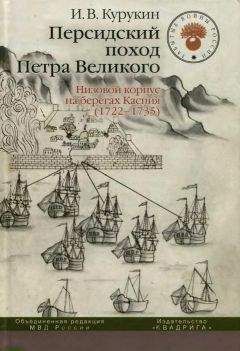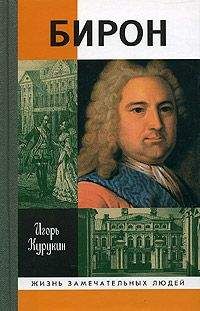2 апреля 1731 года в Решт прибыл задержавшийся в пути Шафиров — он уже успел известить императрицу о поразивших его видах пустынных пространств Нижнего Поволжья и трудностях «коммуникации» с новыми российскими владениями на Кавказе и в Иране. Также приехавший в Решт Мирза Ибрагим поначалу заявил, что имеет лишь инструкцию принять у русских провинции без всякого договора, а затем все же согласился на переговоры. Они пошли успешно: согласно представленному российской стороной проекту империя ради «вечной соседственной дружбы» уступала шаху Гилян и Астару «по Куру реку» и обещала отдать оставшиеся территории, когда западные земли Ирана будут освобождены от турок{933}. Естественно, не все шло гладко. Шах и его посланец требовали немедленного очищения провинций, что трудно было сделать даже технически (эвакуация корпуса должна была занять несколько месяцев), а российские представители надеялись на некоторую денежную компенсацию за уступленные земли.
Посовещавшись, оба полномочных российских представителя в июне доложили: время для заключения трактата кажется подходящим, так как персы к миру склонны, а шахские войска с отъездом Надира в Герат утратили наступательный порыв и не смогли взять Ереван. Однако денежной компенсации за возвращаемые территории требовать не стоит — иранская казна пуста. Как боевой генерал Левашов рапортовал императрице об успешном подавлении «бунтов» во вверенных ему провинциях: «…везде по-прежнему усмирело», — но как дипломат и человек государственный предупреждал: если шах помирится с турками — удержать прикаспийские земли едва ли удастся{934}.
Мирза Ибрагим отбыл к шаху с российским проектом; переговоры продолжились в Тебризе, куда был направлен капитан Кутузов с подарками для шаха — ловчими птицами (ястребами, кречетами и соколами); правда, в августе 1731 года он до шаха так и не доехал — вынужден был повернуть назад от Ардебиля{935}. В Москве Коллегия иностранных дел подготовила для императрицы «всеподданнейшее мнение о персицких делах»: дипломаты взвесили «резоны» за и против уступки территорий и в итоге решили их отдать, так как восемь лет Россия держала их «не для чего иного, толко для опасности от турок и чтоб оных к тем местам не допустить». Коллегия признала: «Сия персицкая война весьма тягостна, и от тамошнего воздуху в людех великой упадок», затраты не окупаются ни «купечеством», ни «гилянскими доходами». Но Андрей Иванович Остерман оставался дипломатом — предлагал с реальным «уступлением» медлить, пока «от турков опасения больше не будет». Обязательство отдать Баку и Дербент можно сделать не письменно, а «на словах»; если же такое обещание уже было дано официально — можно «паки от того отрешись»{936}.
Дипломаты колебались не случайно: преждевременная «сдача» с таким трудом удерживаемых провинций означала односторонний выход из договора с турками 1724 года и могла привести к их захвату, а в глазах шаха и его окружения выглядела бы проявлением слабости. Предугадать же из Москвы, как будут развиваться «персидские конъектуры», было невозможно.
Осложнения возникли и в других местах. Крымский хан Каплан-Гирей решил поддержать своих сторонников в Кабарде, куда послал семитысячное войско калги (наследника) Арслан-Гирея. В ответ летом 1731 года отряд под командованием князя Волконского вступил в гребенские городки. Этот демарш русского командования вынудил калгу отступить. В сражении на Тереке кабардинцы из пророссийской «баксанской партии» нанесли противнику поражение. Комендант крепости Святого Креста генерал Д.Ф. Еропкин предупредил хана, что в случае вступления его войск в Кабарду он примет меры «в защищение подданных ее императорского величества». В июле 1732 года петербургский двор принял решение принять князей пророссийской ориентации во главе с Ислам-беком Мисостовым под покровительство империи{937}. Полгодом ранее началась усобица среди калмыков. Внук хана Аюки Дондук-Омбо разгромил своего дядю хана Церен-Дондука и, опасаясь российских войск, отступил со своими кочевьями за Кубань во владения крымского хана.
Похоже, что императрица была настроена решительно и поступила так, как подсказывал ей в записке фельдмаршал В.В. Долгоруков. Рескрипт от 6 апреля 1731 года «апробовал» представленный проект договора и приказывал Левашову и Шафирову в случае, если части в Гиляне могут быть отрезаны от других российских владений, покинуть Решт даже при отсутствии ратификации трактата и уходить «от Куры реки к Баке и далее… по особливому нашему к персицкому государству имеющему доброжелательству»{938}. Долгожданное известие о ратификации было воспринято в столице с облегчением; новый указ, посланный в сопровождении ратификационных грамот, повелевал командующему уходить из Гиляна без всяких осложнений «и тамошних людей в неволю не брать и не вывозить»{939}.
Но Левашов в Реште не спешил. 30 апреля 1731 года от Аврамова поступили сведения о том, что иранцы «не в бодроство приходят, но более слабеют от своего непорядочного состояния, а впредь надежды их никакой подаваемой не имеется»: «Сурхай из Шемахи к Гяндже прибыл с войски своими немалыми и держит турецкую сторону, слышно, что шах убирается в Исфаган или Казбин, все оставляя в Тебризе и прочие места в своей слабости и бессилии». Переговоры продолжились, поскольку в Решт в июле вернулся Мирза Ибрагим вместе с Юрловым и Аврамовым.
Обстоятельства, однако, изменились. Во-первых, шах Тахмасп ратифицировал трактат, но включил в него пункт о предварительной «отдаче» Лагиджана и вычеркнул упоминание о пятимесячном сроке передачи провинций и седьмую статью об амнистии для служивших русским гилянцев («прощение» провозглашалось отдельным указом, который можно было отменить или трактовать в нужном смысле) и не желал возвращать этот «артикул» в текст договора. После представлений по этому поводу Мирза Ибрагим впал в «великую конфузию». Во время очередной неформальной «подсылки» переводчик Муртаза Тевкелев уговорил его отступиться от немедленной передачи Лагиджана и Кутума; но посол откровенно боялся возвращаться с новым текстом договора к своему повелителю, тем более что российские дипломаты устранили из текста упоминание о турках как общих «неприятелях»{940}. Шафиров же нервничал и в своих донесениях высказывал опасения, что твердость его коллеги грозит «всеконечным разрывом всех у нас чинимых с шахом трактатов, и впредь можем у них весь кредит потерять»{941}.
Во-вторых, изменилось положение самого шаха. Пока Надир был занят осадой упорно сопротивлявшегося Герата, Тахмасп начал военные действия против турок. Он хотел сам отвоевать у них Ереван и Нахичевань, однако в апреле 1731 года иранские войска были разбиты под Ереваном и отступили к Тебризу; другая турецкая армия в это время двигалась на Хамадан. В начале сентября Тахмасп поспешил туда, покинув Тебриз, но в сражении 5 сентября был разгромлен и с остатками своего воинства отступил к Казвину. Жители лишенного укреплений Тебриза оставили город, и он был занят турками.
Левашов не зря платил своим агентам — он отмечал в доношениях, что «повсюды шпионы от нас непрестанно отправляютца». Армянин Мурад Аврамов сообщал из ставки шаха, что в поражении виноват сам монарх, который с перепоя («от шумства») бросил несколько отрядов на все турецкое войско. Официальное извещение о победе, присланное Ахмед-пашой из Багдада, командующий сверил с донесением другого своего шпиона из турецкого лагеря. Кулла Гамет Хаджимугаметев сообщал, что нетрезвый шах скакал по лагерю и велел палить из пушек, радуясь скорому миру, а турки приняли эту канонаду за начало военных действий и пошли в атаку{942}.
Разночтения в деталях не отменяли главного — войска шаха были разбиты, и турки вновь заняли Хамадан, Керманшах, Тебриз. От посланных в Тебриз подполковника Юрлова и Аврамова поступили ведения о том, что иранцы «не в бодроство приходят, но более слабеют от своего непорядочного состояния, а впредь надежды их никакой подаваемой не имеется». Переговоры замерли, но Левашов и Шафиров делали все от них зависящее, чтобы побудить министров Тахмаспа (к ним был отправлен Аврамов) не допустить мира с турками и вновь поставить Тахмасп Кули-хана во главе персидской армии, несмотря на его недавние угрозы. Шахские придворные боялись Надира и именовали «большим дияволом»; Левашов в донесениях называл его «степным зверем», но срочно послал в его лагерь муллу Хасана и рештского «писаря» Агу Эмина. Мулла официально должен был «обнадежить» выскочку в «склонности» к нему российской государыни как к единственному в Иране «доброму воину и благонамеренному оборонителю своего отечества», а неофициально — выяснить, намерен ли тот «вступаться за шаха или искать своих выгод»{943}.