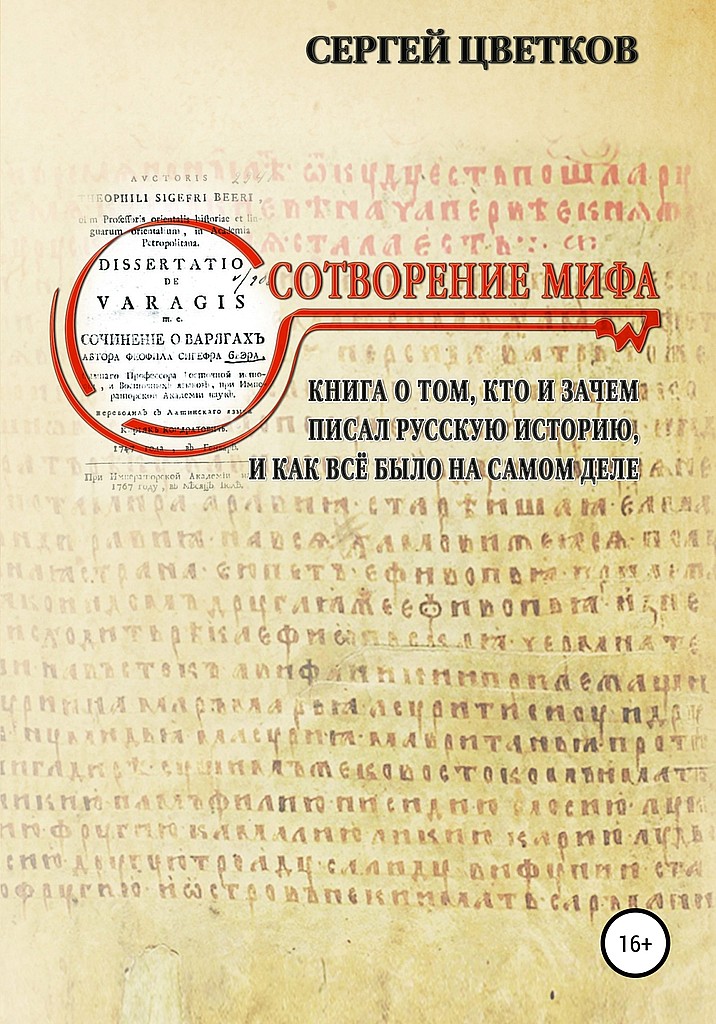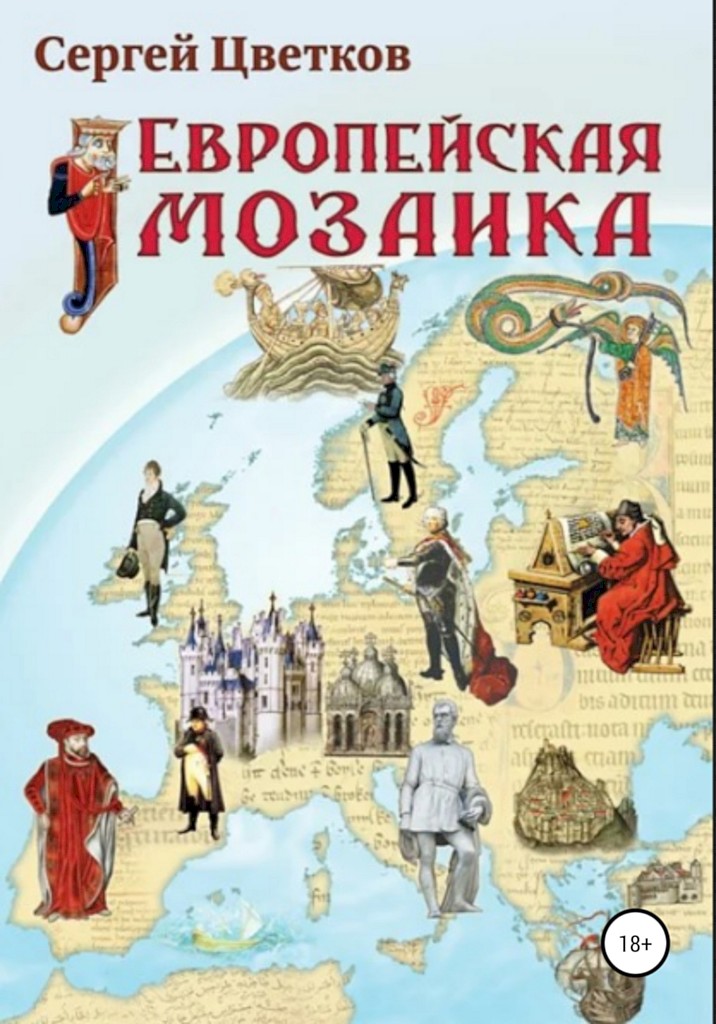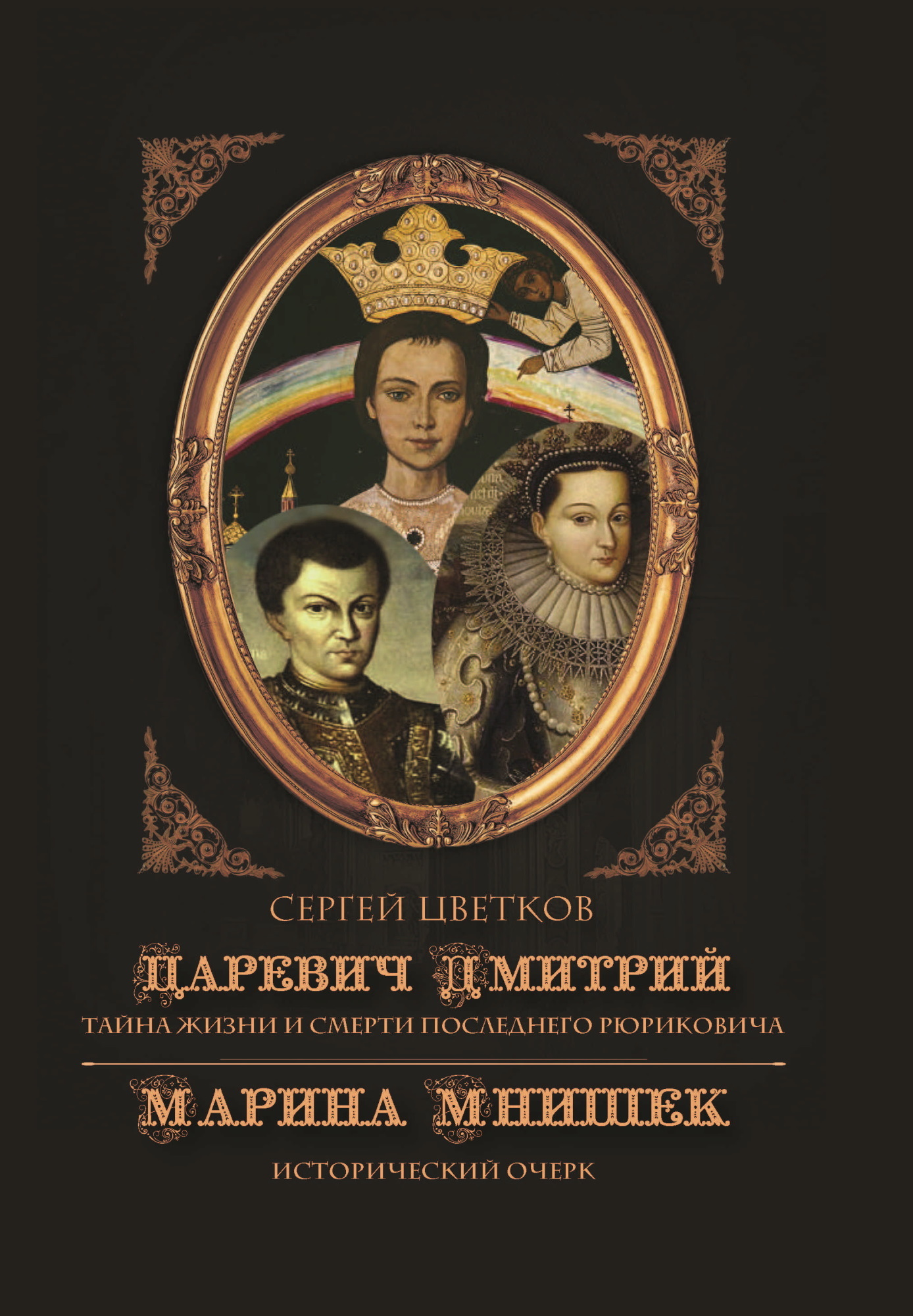Феодосия» питал особую приязнь к младшей ветви «Ярославова племени» — князю Владимиру Мономаху и его отцу Всеволоду Ярославичу. Возможно, предание о призвании новгородцами князя вследствие внутренних смут показалось ему интересным ещё и тем, что оно перекликалось с недавними событиями 1113 года, когда по смерти князя Святополка Изяславича в Киеве вспыхнул мятеж. Были разграблены дворы тысяцкого Путяты, городских старшин и гнездо ростовщичества — еврейский квартал, примыкавший к Жидовским воротам. Киевская знать обратилась за помощью к Владимиру Мономаху, в то время княжившему в Переяславле. Приезд чтимого в народе князя успокоил волнения.
На этом биография первого летописца обрывается. Никаких сведений о нём после 1114 года в летописи нет.
Заключительным шагом в истории создания первого летописного свода (список с которого лёг в основу Новгородской первой летописи младшего извода) стало объединение «Повести временных лет» с «летописцем» (в качестве первой его части) и датирование изложенных в ней событий. Возможно, эту работу проделал сам «ученик Феодосия». А может быть, за неё взялся Нестор, чем может объясняться усвоенная ему в традиции Печерского монастыря роль «отца русской истории».
Ярко выраженная идейная направленность «Повести временных лет» наложила эсхатологическую окраску на всё дальнейшее летописание. Недаром заголовок Новгородской первой летописи младшего извода гласит: «Временник, еже есть нарицается летописание князей и земля Руския, и како избра бог страну нашу на последнее время…».
Устоявшееся в течение XII века название для всего летописного свода — «Повесть временных лет» — призывало читать его не только как историческое сочинение, простой рассказ о прошлом. У слова «временной» было и другое значение: «не всегда, не вечно существующий; земной, преходящий». Смысловой упор тут делался на противопоставлении течения «временных» (то есть земных) лет — неподвижной вечности, в которой пребывает сакральный, небесный мир. «Временные лета» для потомков «ученика Феодосия» были чётко ограниченным отрезком времени, протяжённостью в 7000 лет: они начинались с сотворения мира, имели «сюжетную кульминацию» в виде крещения Русской земли и заканчивались Страшным судом, который, согласно пасхальным таблицам, должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. Описывая прошлое, «Повесть временных лет» призывала помнить не о минувшем, а о вечном [197].
В каком-то смысле летопись предназначалась, собственно, не князьям, не образованным современникам летописца и даже не потомкам. Подразумевалось, что главным её «читателем» будет сам Господь. Летопись отмечала дела и события, по которым будут судить Русскую землю на Страшном суде. Это был своеобразный отчёт о прегрешениях и праведных поступках нескольких поколений русских людей. Не случайно, волынский князь Мстислав, против которого жители Берестья подняли мятеж (1289), пригрозил им, что «вписал в летописец крамолу их».
Первую крупную редакторскую правку в сочинение «ученика Феодосия» внёс Сильвестр, игумен Выдубицкого Михайлова монастыря. Это был «княжеский» монастырь, семейная обитель младших Ярославичей — князя Всеволода и Владимира Мономаха. Благодаря близости ко двору Сильвестр имел доступ к княжескому архиву, откуда позаимствовал и перенёс в летопись тексты договоров с греками. Переписав в 1116 году летописный свод «ученика Феодосия» (и внеся туда свои дополнения), Сильвестр продолжил её, но вот до какого года — на этот счёт мнения разнятся. Умер он в 1123 году, в сане епископа Переяславского. Он оказался единственным летописцем, который оставил потомкам своё имя: «Игумен Сильвестр… написал книгу эту, летописец, надеясь от Бога милость получить, при князе Владимире (Мономахе), когда княжил он в Киеве, а я в то время игуменствовал у Святого Михаила в 6624 (1116) году…» [198].
Попытки выяснения личности «ученика Феодосия» не прекращаются и в наши дни. Поиски ведутся среди известных нам насельников Печерского монастыря второй половины XI века. Сравнительно недавно возникли новые увлекательные гипотезы. Исследователь русского летописания В. К. Зиборов обращает внимание на монаха Григория, который в Киево-Печерском патерике назван «творцом канонов» Феодосию Печерскому [199]. Некоторые фрагменты его произведений обнаруживают стилистическую близость тексту летописи об обретении мощей Феодосия и похвале преподобному.
Для историка и археолога А. Л. Никитина кандидат в «ученики Феодосия» должен удовлетворять двум основным требованиям: быть связанным с Феодосием в быту и причастным к литературной работе. В связи с этим взгляд исследователя останавливается на фигуре «черноризца Лариона (Илариона)», которого упоминает Нестор в своём Житии преподобного Феодосия. Этот монах коротал дни и ночи в келье печерского игумена за переписыванием книг: «Был он искусным книгописцем, — пишет Нестор, — и дни и ночи переписывал книги в келье у блаженного отца нашего Феодосия, а тот тихо распевал псалмы и прял шерсть или иным чем занимался».
По мнению А. Л. Никитина, именно этот инок и был келейником Феодосия, знавшим место захоронения преподобного, автором «Повести временных лет» и первым русским летописцем [200]. Впрочем, этот занимательный историко-филологический роман желающие могут прочитать сами.
Послесловие
Вскоре после смерти Шлёцера норманнизм торжественно воцарился в русском университете и в русской школе, оформился в догматы и сделался частью национального самосознания. И это при том, что по части научной аргументации норманнисты оказывались не на высоте. Слабость их доказательств наглядно продемонстрировал знаменитый публичный диспут по варяжскому вопросу, состоявшийся 19 марта 1860 года (в связи с подготовкой к юбилею 1000-летия образования Русского государства), на котором патриарх официальной науки М. П. Погодин защищал позиции норманнизма от задорной атаки на него молодого Н. И. Костомарова. Под занавес этого учёного турнира Погодин, уже не находя аргументов, но не имея духа отречься от научной ереси, которую исповедовал всю жизнь, отчаянно воскликнул под громкий хохот аудитории: «Но я сердцем чувствую, что наши первые князья были норманнами!» О, это вещее сердце норманниста!
Но в научном мире всё оставалось по-прежнему. Почти незамеченными прошли «Отрывки из исследований о варяжском вопросе» С. Гедеонова (печатались в «Записках Академии Наук» в 1862–1864 гг.) с их убийственной критикой основных научных положений норманнизма. Академические и университетские научные круги проявляли удивительную косность и, хуже того, интеллектуальную корпоративность. «Неумолимое норманнское вето тяготеет над разъяснением какого бы то ни было остатка нашей родной старины, — возмущённо писал Гедеонов. — Но кто же, какой Дарвин вдохнёт жизнь в этот истукан с норманнской головой и славянским туловищем?»
О совершенно ненормальной обстановке в учёной среде свидетельствовал в 1899 году профессор Н. П. Загоскин (в 1906–1909 гг. ректор Казанского университета): «Вплоть до второй половины текущего столетия учение норманнской школы было господствующим и авторитет корифеев её,