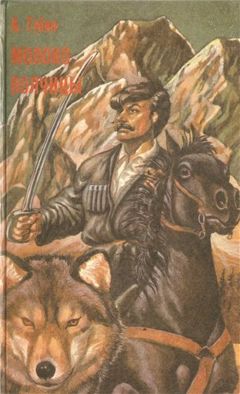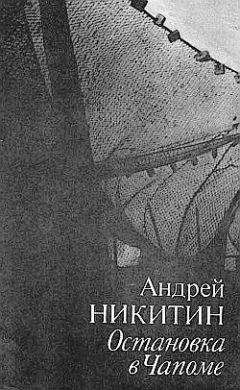Двоих ободряла, а третьему написала письмо в исправдом. Писала и видела Спиридона маленьким у нее на руках, советовала беречься от простуды, целовала его «трудные рученьки», простилась с ним прямо навсегда — и закончила письмо словами из духовного стихарника:
Прошел мой век, как день вчерашний,
Как дым, промчалась жизнь моя…
И вложила в письмо лист клена, на который в детстве лазил Спиридон устраивать скворечни. Письмо вложила в посылку с харчами, добытыми ее, материнскими, руками.
Жалко и внуков. Что им предстоит впереди? Кто приголубит их так, как она? Недавно Митька прилетает из школы и к бабке в старую хату:
— Баушка! Правда, наш дед людей загрызал и кровь высасывал?
— Господь с тобой, ты чего?
— Учительница так говорит: казаки — это людоеды!
— Типун ей на язык!
Суть казакования — война, разбой, расширение и защита границ. Смерть — часто ранняя — настигала казака в седле. Отсюда и мужская цена выше женской. Побьют в дальнем походе казаков. В станицах растут сироты, их дети, «Ты чей?» — спрашивают сына какого-нибудь Петра. «Петров». Так возникали фамилии — Федин, Герасимов. Самсонов… За тонкий ус самого Петрова могли называть Усик, Усиков — его сын. Не составляют секрета и такие фамилии — Татаринов, Ногаев, Персидский, при этом человек получал не только фамилию, но и восточную внешность, нос с горбинкой, черные глаза.
Слава казачья, а жизнь собачья, говаривали казаки. И особенно горька бабья доля. Еще детьми усваивали они лютую премудрость: курица не птица, баба не человек. Кусок послаще — мужу, себе — что останется. Сахар только вприкуску — а как хотелось внакладку. Обновы береги детям и внукам.
На родившуюся девочку земли не давали — царю не много пользы от баб, разве что потом казака родит. На мужскую казачью голову давали несколько десятин сотенных (десятина — около двух гектаров). Дележ земли превращался в состязание, кто перепоит «делижеров», чтобы не наделили хрящом или косогором. И если у кого семь юбок на одного отца, ложись в борозду и помирай. Девку старались пораньше спихнуть с шеи. Выйдет замуж, хоть сыта будет, а может, еще тайком от свекрухи в кофтенке отцу-матери кусок принесет.
А поначалу женщина наряду с быками и коровами была основной силой в хозяйстве. С детьми она работала в поле и дома, занималась воспитанием, вернее — питанием семьи, пока мужчины стояли на редутах, охотясь за бритыми головами горцев. Сменилось три поколения, пока кончилась кавказская война, и мужчины долго не хотели расставаться со своим положением, услаждались оружием, конями, амуницией. От своих горских противников они усвоили дурной мусульманский взгляд на женщину. Хотя ели не так, как у татар, а за одним столом, но плеть висела на видном месте. Война уходила в прошлое, становилась песней, преданием, и мужчины стали наконец пахарями и скотоводами — наступил «патриархат». Но плуг и винтовка соседствовали, выковывая тип разгульного, песенного удальца, не знавшего барщины, оброка, крепостного ярма.
Прасковья Харитоновна вдоволь хлебнула и «патриархата» и «матриархата» — замужем и вдовой.
Есауловы умирали стоя — в роду их никто не жил более семидесяти лет, сердечники. Так же и Мирные — род Прасковьи Харитоновны — не заживались, давали место молодым. Вообще станичники болели мало, не показывали хворь, падали легко и внезапно, как осенние листья. Исключения, конечно, случались.
Филипп Ситников лет в семьдесят шесть занемог, священник соборовал его, напутствуя на путь дальний, родные уже готовились. К девяноста годам Филипп все жил, потерял слух, тиранил третью жену — двоих пережил, стал не в меру прожорливым и ко всему живому ненавистным, особенно к молодым, которым еще долго жить. Он злостно ходил под себя, хотя встать по нужде мог, и днями лежал на загаженной постели.
Сердечность и гордость Прасковьи Харитоновны не могли бы смириться с подобной, ужасной долей. Она могла бы еще жить, подлечившись, отдохнув, полежав. Но в том-то и дело, что лежать она не умела и не хотела. В понятие жить не входило — болеть, лежать. Не гнилым падало зерно в землю, а еще дебелым.
Вдруг заметила Прасковья Харитоновна, что все ее дружки и подружки убрались с пира, а она загостевалась, припозднилась, а уже вечереет, идти не близко, и одна она тут, и заплакала мать горько-горько, бессильными, смертными слезами. «Не жилица — плачет», — подумала тетка Лукерья, пришедшая проведать занемогшую Прасковью Харитоновну. А Прасковья еще хуже: лапши с курятиной попросила, а уж эту примету — к смерти — иные курсовые доктора признавали.
Неделю назад Глеб с матерью обедали под тенистым деревом, на вольном воздухе, а воздух был — хоть нарезай его синими кипами, запаковывай в ящики и отправляй на продажу в городскую да фабричную гарь. Без всякого случая Глеб распечатал шкалик.
— Не хочу, — виновато улыбнулась мать.
А ведь раньше любила пропустить чарочку с трудов.
Тихо гутарили о том, о сем.
Как засвистел, раскатился звонкими руладами соловей — прямо на ветке, над головой. Ни время, ни место не подходили для соловьиного занятия. Глеб удивился донельзя, а мать светло помрачнела:
— Это он разлуку нашу вещает, поет мне дальнюю дорогу.
Испуганный сын недовольно буркнул:
— Вечно вы, мама, о смерти талдычите.
— Нет, сынок, эта песня непростая. Это по мою душу. Он и вчера, и третьего дня пел, только я слыхала одна, и хожу теперь, ровно напущенно, сама не своя. Я уж и на попа, не услышь, господи, рубль стратила.
То ли в силу особого дара, то ли от близости курсовых господ Прасковья Харитоновна выражалась иной раз книжно, загадочно. И теперь о грядущем конце сказала:
— Все ближе и ближе к намеченной цели.
Помолчала, прибавила:
— Какая жизнь беспощадная! Ой какая жестокая!..
И перешла на казачий язык:
— Пора костям на место… Слухай, сынок, деньги мои на смерть в пшенице, в энтом мешке, что с крапивной латкой.
Глеба обдало холодом — он чуть не продал на днях эту пшеницу вместе с мешком, да покупатель не захотел брать латаный мешок, а то бы продал Глеб денежки.
То ли соглашаясь с мыслями матери о смерти, то ли противореча ей, сын предложил:
— Давайте, мама, я вашу карточку увеличу на портрет?
— Еще чего не хватало — валяться за сундуком да детям карандашами мазюкать! — не соглашается мать и опять жалеет сына: — Всегда ты ел обдутый кусочек, разве жена так накормит, как мать? Горе мое великое!
И видела в сыне только слабое, доброе. Вспомнила, как он пригнал в стансовет дудаков из степи — обледенели, лететь не могли и, лишь согревшись, оттаяв, улетели на юг, а его, Глеба, считают железным.
— Устилки мои никому не отдавай, сам носи зимой, они теплые, ноги ровно на печке, я их вырезала из отцовской бурки… Уйду от вас, и будете собирать все-е мои разговоры…
Смолк неожиданно соловей. Дерево опустело.
Мужчины во все времена умирали раньше женщин, но замыслу матери-природы. Овдовев, станичные бабы, случалось, вторично выходили замуж, но чаще вековали одни и любовь свою к мужу переносили на могилы. По весне сажали там цветы, поправляли оградки, проведывали своих хозяев в праздники, в великий день. Подходя к «тихому пристанищу», обнимали могильный крест или камень и как живому говорили с тихими рыданиями слова привета, просили подождать их там — «теперь уже скоро». Они утешались тем, что знали свое будущее место, хоронили в одну могилу, только не гроб на гроб, ибо это суть разврата, а подрывали на глубине боковую нишу, и гробы стояли бок о бок.
Блюла фамильный приют на кладбище и Прасковья Харитоновна, носила туда куличи, зерна, крашеные яйца — для нищих и птиц. С годами он становился ей дороже приюта временного — старой хаты. А когда сумовали с Глебом поставить на могиле отца новую оградку, радовалась, будто свалившемуся богатству. Да и гордость заедала: вот и у них, у Есауловых, будет могила, как у людей, а может, еще и получше.
Прасковья Харитоновна обошла подворье, постояла над быстро бегущей речкой, посмотрела на синюю прохладу гор. Дальше станицы нигде не была что там дальше? Какие они, Белые горы? И зачем это: быть однажды и исчезнуть навсегда? Но мысли только мелькнули. Великая покорность стояла в прекрасных, черного угля, глазах. Уходила из жизни просто и чисто, как травы или облака.
Четыре старинные юбки надела Прасковья Харитоновна, желтую в маках шалетку, что подарила ей Мария, и впервые в рабочее время пошла по станице, сама улыбаясь нарядному виду и посмеиваясь своему превосходству в этот день над станичными бабами. Обошла родных, близких, всем посадила по кусту редкого винограда, всех пригласила:
— Хоронить же приходите, а то обижусь.
Зашла и к чеканщику Федосею Маркову, у которого Денис Коршак ходил в подмастерьях, сказали, помирает он, проститься надо.