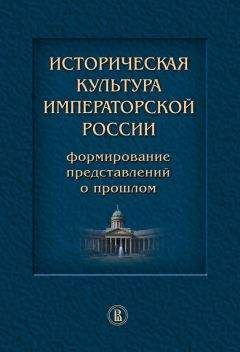становится все более ясно, что колониализм был не только угнетением и насилием, обезличенностью и неравенством. Как пишут преподаватели университета Тулуз-ле-Мирей, это еще и взаимодействие культур и, «хотели бы того или нет, – особый путь к модерности для большинства колонизованных стран». В конечном счете – факт, особенно очевидный и актуальный в свете современной миграции – это «циркуляция идей, людей, практик» [868].
На самом деле, политика ассимиляции порождала все возраставшее стремление колонизованных народов к обретению своей идентичности, тем более яростное и неуклонное, чем больше они в лице собственной нарождающейся интеллигенции проникались идеалами европейского Просвещения, принципами Французской республики.
Яркий пример взаимодействия идей Просвещения с национальными традициями – негритюд, начавшееся перед Второй мировой войной культурно-освободительное движение негро-африканской интеллигенции. Оно сформировалось в Латинском квартале и в кафе Монмартра. Эмэ Сезэр, Сенгор и их товарищи получили образование в Париже, были французскими писателями и прославляли традиционную цивилизацию народов Африки на языке колонизаторов. Более того, сам материал для ее прославления они черпали в колониальной науке. «Это в Париже, по следам этнологов мы, – писал будущий президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор, – заново открыли негритюд, т. е. культурные ценности негро-африканской цивилизации». Знаменательный факт – для подобных культурно-освободительных движений «возвращение к истокам» начиналось с обращения к трудам европейских ученых [869].
Известно и обратное влияние: негритюд способствовал становлению и развитию французского сюрреализма, явление африканского искусства придало новое направление французскому импрессионизму. Колониальная наука и возникшая после Первой мировой войны «колониальная литература» – в той и другой сфере проявляли себя зачастую чиновники колониальной администрации – несли с собой открытие нового мира для самой метрополии, для французов.
Грандиозное впечатление на культурную элиту и народ Франции произвела Колониальная выставка 1931 г., на которой с мая по ноябрь побывали 34 млн. посетителей. Разумеется, то был прежде всего показ достижений колониальной администрации, но одновременно французам была представлена в широких масштабах, зрелищно и ощущаемо «другая» Франция, та, что получила в это время название «Франции заморской». «Старая европейская Франция и молодая Франция заморская, – говорилось на официальном открытии выставки, – несмотря на расстояния, мало-помалу сближаются, взаимопроникают, смешиваются и становятся неразделимыми» [870].
Возникало основание для появления идеи Сообщества – Communauté, и это понятие входит в обиход наряду с термином Империя, своеобразно сливаясь с ним. «La Communauté impériale française (Французское имперское Сообщество)» – таким было название написанной во время войны книги, авторами которой были представитель метрополии Р. Лемейньен, камбоджийский принц Сисоват Ютевонг и Л.С. Сенгор. Идея Сообщества предполагала, что народы колоний «перестанут быть подданными и станут ассоциированными», как выразился упоминавшийся Альбер Байе.
Апология французского колониализма все больше сводится к оказанию братской помощи нуждающимся в ней. Как доказывал французский делегат на конгрессе Лиги прав человека: «Принести науку народам, ее не знавшим, дать им шоссе, каналы, железные дороги, автомобили, телеграф, телефон, организовать у них санитарную службу, познакомить их, наконец, с правами человека – это требование Братства» [871].
Гуманность требовала ответа на самые болезненные вопросы колониальной политики. Едва ли не самым острым становился вопрос о предоставлении гражданства мусульманам Алжира, он возник с самого момента аннексии. Противники ссылались на нормы мусульманского права как на непреодолимое препятствие: «Натурализация мусульман невозможна, потому что она не может не повлечь за собой ликвидацию их гражданских законов, являющихся одновременно законами религии… Коран – религиозный кодекс мусульман – является также их кодексом гражданским и политическим. Он указывает не только на то, во что следует верить, но и на то, что следует делать в чисто гражданской сфере. Из-за такого слияния в исламизме гражданского и религиозного закона нельзя коснуться одного, не затронув другой» [872].
Этот аргумент против полноправия иммигрантов-мусульман, сохраняющий свою влиятельность в современной Франции, опровергался еще при Третьей республике. Обосновывая законопроект о расширении доступа алжирских мусульман к французскому гражданству, Морис Виолетт (1938) говорил: «Не нужно требовать от мусульман отказа от их политического или семейного статуса, от их веры, обращения к нашим нравам. Нужно просто предложить им войти в великую французскую семью с ее традицией, ее духом и присоединиться к нашему делу цивилизации, делу национального величия, быть честными и преданными соратниками» [873]. Эта риторика не убедила колониальное лобби, которое стояло на своем: французские колонисты в Алжире будут поглощены «невежественными, фанатичными, враждебными массами», если тем будет предоставлено полноправное гражданство [874].
Жирарде называет 1930-е годы «поисками колониального гуманизма». Универсализм колониального посыла сохраняется, но заметно углубляется. Мысль идеологов колонизации направляется в сторону колониального симбиоза как «братства различных», «когда каждый, оставаясь самим собой, готов принять от другого то лучшее, что у того есть». В идеале это «обмен дарами», – писал Робер Делавиньет, вспоминая в книге «Судан – Париж – Бургундия» долгую беседу в Африке с мусульманским мудрецом: «Мы вкусили наслаждение быть различными в обществе друг друга». Элита колониальной администрации устами своего выдающегося представителя, каким был Делавиньет, директор Национальной школы заморской Франции, основного поставщика кадров колониального чиновничества, заговорила об «обновлении классического гуманизма французов» [875].
Колониальный симбиоз поворачивался новой стороной – задумались уже не только о пробуждении Востока Европой, но и о пробуждении самой Европы. «Воспользуйтесь Суданом, чтобы переделать общество во Франции, – обращался Делавиньет к молодым французам. – Африка станет спасением для Европы, если приведет к реформированию Франции. Колонии, столица, провинция – пусть эти три слова соединятся в ваших головах без иерархического смысла. Все это важно, все это одно и то же дело обновления Запада» [876]. Политика колонизации обретает новый, вселенский смысл: «спасать» теперь предстоит Запад, Европу, Францию – «мертвые империи и больные республики».
«Европа сделала то, что должна была сделать, и, суммируя все, вполне справилась с этим»; но нужно, чтобы «человечество поднялось еще на одну ступень» [877], – скажет Франц Фанон. В устах этого темнокожего представителя послевоенной французской интеллигенции призыв об обновлении классического гуманизма обретет новое содержание. Фанон призывал услышать голос колонизованных народов во имя «созидания цивилизации во всемирном масштабе» [878].
И от лица Европы, от имени европейской цивилизации директор левокатолического «Эспри» Жан-Мари Доменак поддержал призыв к новой всеобщности, к тому чтобы «двигаться бок о бок»: «Союз лучшей части европейской интеллигенции с бедными и угнетенными – вот что продолжает оплодотворять весь мир… Если мы замкнемся, кичась своей обеспеченностью и старческой умудренностью, фермент Европы будет продолжать действовать, но уже без нас и против нас» [879].
Колониальный симбиоз оставил неизгладимый след в обеих частях колониального мира: «Хотя колониальная система была сокрушена за несколько месяцев, ставшие независимыми страны сохранили большую часть колониального